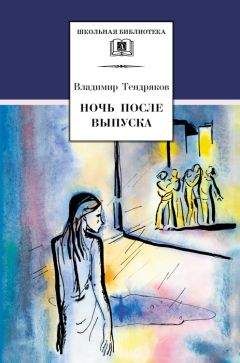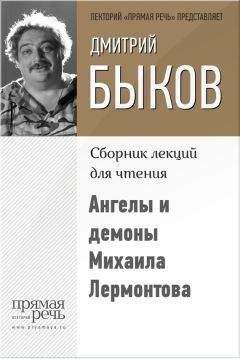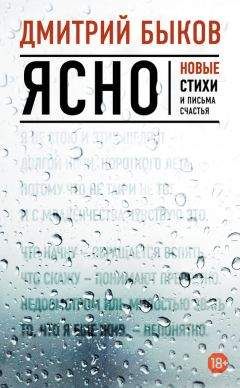Дмитрий Быков - Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник)
Вера Петровна не укоряла нас убиенными пионерами-героями, которых мы и так любили без памяти, не сулила светлого будущего. На ее уроках мы жили сегодняшним днем и обсуждали сюжеты позабавнее. Для наглядности Вера Петровна выбрала конкретную фигуру. В центре постоянного и пристального внимания оказалась девочка, наша ровесница – принцесса княжества Монако. Вера Петровна приносила в класс невиданные журналы, и из-под чуть-чуть приподнявшегося железного занавеса мы рассматривали принцессу, удивлялись веселой ее мордашке, приветливой улыбке, красивым принцессиным платьям, купальникам и шляпкам.
Мы и раньше догадывались о существовании иной жизни, более того, подглядывали за ней, ибо многочисленные школьные окна, выходившие в переулок, смотрели в одно-единственное, но гигантское окно иностранного посольства, занимавшего небывалой красоты особняк, выстроенный архитектором Шехтелем на пике русского модерна. Мы учились во вторую смену и вечерами, с четвертого школьного этажа, из унылого актового зала, окруженного по периметру заборчиком заклинаний, выписанных по кумачу аккуратными белыми буковками, в огромном, высотою с дом, окне особняка напротив видели другую залу – с камином, сияющей люстрой и зеркальным паркетом. Девочка нашего возраста в белой пачке отражалась в сверкающем паркете и под присмотром тонкой женщины в черном бесконечно повторяла балетные па.
Иностранная девочка училась танцевать, а мы с туповатым любопытством пялились на чужую, похожую на мираж жизнь. Ну а Вера Петровна взяла да и приблизила невероятную эту жизнь, остроумно вплела в учебный процесс не сказочную, а всамделишную, современную принцессу. Вера Петровна не развивала в нас комплекса Эллочки Щукиной, мы не завидовали принцессе, а изучали фасоны ее платьев и пытались сшить себе похожие. Плели из скрученной в жгуты гофрированной бумаги точно такие же шляпки, как у принцессы, а для прочности и нарядного блеска покрывали их канцелярским клеем. На пляжных фотографиях детскую грудь принцессы Монако прикрывала узенькая полоска на бретельках, и мы загорелись идеей соорудить к лету такой же предмет туалета. На своих уроках Вера Петровна делилась с нами незатейливыми, но полезными житейскими сведениями, о которых позабыли и мамы наши, и бабушки, у кого они были.
Увлеченно следя за жизнью принцессы, внимательно выслушивая наставления Веры Петровны, я ни на минуту не забывала о семейной точке зрения, с которой воспринимались подобные занимательные сюжеты у нас дома. Дома высмеивали пошлость и презирали мещанство. А как еще назвать все эти женские секретики и уловки, если не пошлостью и мещанством? Рассказами из репертуара Веры Петровны я так успешно смешила домашних, что тетушкина подруга Наташа, писавшая уморительные пародии и осваивавшая в те времена плодородную тему советской школы, чрезвычайно ими заинтересовалась и раззадорилась побеседовать с Верой Петровной, намереваясь высмеять по-доброму мещанские грезы и дурацкие бредни – весь этот слащавый ливер, которым добрая женщина фаршировала податливые наши мозги.
А надо сказать, что Наташа, блистательно боровшаяся с вездесущим мещанством и повсеместным засильем воинствующей пошлости, была человеком особенной судьбы. Ребенком она очутилась в Харбине, там же окончила гимназию, из Харбина перебралась в Шанхай, занялась журналистикой, а в конце 40-х возвратилась в СССР. Поначалу Наташа попала в Казань, но вскоре поступила в Литературный институт имени А. И. Герцена на Тверском бульваре в Москве и принялась мыкаться по столичным углам и подвалам. Но без московской прописки и по подвалам не помыкаешься, поэтому тетушка моя, горячо подружившаяся с Наташей, прописала ее в своей комнате. В те времена Наташа писала не только пародии и фельетоны, но еще и длинный автобиографический роман. А потом вышла замуж за своего профессора – известного ученого, интеллектуала и острослова, – купила жилье в писательском доме и жизнь свою стабилизировала.
Итак, заинтересовавшись преподаванием домоводства в советской школе вообще и ролью принцессы Монако в этом процессе в частности, Наташа решила посадить меня в свою «Волгу» и покатать по Москве. Предполагалось, что в непринужденной дорожной атмосфере мы поболтаем, Наташа соберет материал, углубит его и разовьет и в результате автомобильной прогулки родится новая блистательная пародия.
Мне уже приходилось ездить в Наташиной серо-голубой «Волге». Дело в том, что Наташа была из тех, кто состоял при Анне Андреевне Ахматовой, в команде ее фанатов. И помимо прочих обязанностей выполняла еще и шоферские. Собственных машин в те времена не было почти ни у кого, и Наташа возила Анну Андреевну в гости и на прогулки. Раза два или три в загородные поездки с поэтом брали и меня. Заманчиво поделиться впечатлениями от встреч с великой современницей, но, будучи подростком стеснительным, я глаза поднять боялась, а не то чтобы взглянуть в лицо Ахматовой. И даже букетик белых весенних цветочков, собранный по тетушкиному наущению на лесной архангельской обочине, помнится, протянула Анне Андреевне набычившись, насупившись, полуотвернувшись. Сидя на заднем сиденье Наташиной «Волги», плетясь в арьергарде по мартовскому Коломенскому или майскому Архангельскому, рассматривала затылок поэта, серебряные волосы, массивную фигуру (вид сзади). А когда Ахматова величаво поворачивала голову к собеседнице, мне удавалось разглядеть ухо, щеку, веко, а иногда и знаменитый профиль целиком. Увы, я не запомнила ни одного слова из тех, что произносила Анна Андреевна на прогулке и в машине, по пути туда и обратно. Слова Ахматовой меня, малолетнюю дуру, интересовали меньше Наташиных острот, действительно отменных. Только однажды увидела я поэта анфас, да и то против света. 20 марта 1960 года (дата установлена по тетушкиному дневнику) Анна Андреевна побывала у нас и в тот момент, когда я вошла в комнату, стояла спиной к окну. В тот раз я увидела Ахматову точно такой, какой вижу вот уже много лет на подаренной мне фотографии. Фотография смутная, рука придерживает у горла вязаную шаль, лицо изначально отдалено во времени, смягчено и размыто в пространстве. Будто человек смотрит не из сегодняшнего (тогдашнего) дня и не из вчерашнего, а из будущего и знает обо всем, чему предстоит случиться.
А на фото, сделанном 17 мая 1957 года в фонетической лаборатории МГУ, присутствуют трое: профессор с запутавшейся в бороде растроганной полуулыбкой, умиленная Наташа и Ахматова с лицом, в противоположность слушателям, строгим, даже надменным, с головою, едва повернутой к фотографу. Отчего веки Анны Андреевны так скорбно прикрыты, почему вокруг носа ее и губ такие суровые складки, во что так проникновенно и ласково вслушиваются Наташа с профессором? Не узнать никогда.
Из-за подростковой застенчивости не разглядела я как следует лица живого поэта. А 5 марта 1966 года Ахматова скончалась, и в одно из промозглых утр вместо школы я отправилась на гражданскую панихиду в морг Института имени Склифосовского. Долго искала калитку в бетонном заборе, нашла наконец, поднялась по лестнице и вошла в длинное помещение. И в дальнем его торце, ближе к мутному окну, увидела стол. А на столе – Анну Ахматову. В эту раннюю минуту в помещении было пустынно, чьи-то бесплотные силуэты почти сливались со стенами. Я смутилась и спустилась во двор, усыпанный колючим ледяным крошевом. Минут через двадцать потянулся народ, и с этим потоком я снова вошла внутрь. Людей становилось все больше, а уходить не хотелось. И чтобы не мешать человеческому коловращению, я поступила так же, как седая стриженая женщина рядом, – влезла на скамью у стены. Поток вливался в дверной проем, обтекал гроб и вытекал из помещения. Некоторые проходили круг не по одному разу, кое-кто принес вербы. Я никого не знала в лицо и из человеческого множества идентифицировала только Евтушенко, с любопытством Буратино вертевшего головкой на петушьей шее, и многозначительную, закутанную в шарфы чету Слуцких. Возле стола колыхалась прозрачная Аня Каминская – девушка-анемон. И вдовье выражение ее лица, и скорбная поза, и лишние хлопотливые движения до чрезмерности соответствовали моменту. В серебристом вербном оперении, в чем-то сиреневом, лежала на белом столе Анна Ахматова, люди вращались вокруг нее, и со скамеечной высоты происходившее казалось (и оказалось!) воронкой, втягивавшей прощавшихся в свой водоворот.
На скамейке я простояла до конца скорбной церемонии. Потом все столпились во дворе, кем-то было сказано что-то, и пока выносили гроб и втискивали его в автобус, Виктор Ефимович Ардов – пожилой господин с тростью, приземистый Мефистофель в пальто песочного цвета, со ступеней морга строго скомандовал всем расходиться. Гроб с телом поэта отправился в аэропорт, оттуда в Ленинград, в Никольский собор, в Комарово, а я села в троллейбус «Б» и поехала в школу. Успела к пятому уроку, к химии. В классе сказала, что была на похоронах родственницы. Мне и в голову не пришло назвать имени Ахматовой, я точно знала, что никто из моих одноклассников ни разу его не слышал.