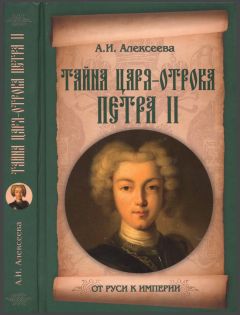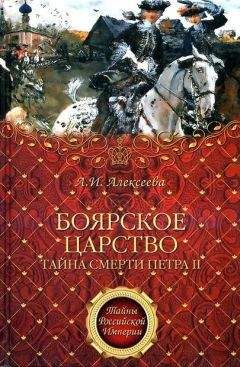Алель Алексеева - Тайна царя-отрока Петра II
— Каково сердце-то?
— Ай, ничего, внучка, с моим сердцем ничего не станется до самой смерти, — отмахнулась Марья Ивановна. — Сядь-ко да погляди, чего я нашла. Эвон какое полотенце, матушка моя ещё вышивала… — Она развернула чуть тронутое желтизной полотенце с чёрнокрасными петухами, вышитое крестом. — Рукодельница она была — страсть какая! В прежние-то годы всякая девка, царских ли кровей али подлого рождения, чуть не с детства приданое себе готовила, ткала, вышивала, шила. А это, матушка моя сказывала, вышивала она, когда невест для Алексея Михайловича выбирали… Знамо ли тебе, каково это делалось?
И хоть недосуг было молодой хозяйке, села она на маленькую скамейку возле кровати бабушкиной и выслушала её рассказ, как по весне и по осени привозили невест со всех краёв российских. В разных покоях рассаживали, они там одевались, готовились. Царь то к одной, то к другой заглянет, ходил неспешно. Но пуще, чем царь, глядели лекари да спальники, обсматривали, ощупывали: ладно ли у девицы плечо скатывается, нет ли худобы, хороша ли, бела ли кожа, блестит ли волос. А ещё — довольно ли в груди, обильна ли в заде невеста…
— Ой, да что это разболталась-то я? — остановила себя бабушка, вспоминая, что день сегодня особенный. — Да и ты, голубушка, сидишь-рассиживаешь. Ну-ка марш в гостиную, да гляди, чтоб ладно всё там было. Знаю я, эти Глашки да Палашки салфетки забудут, ножи не к месту покладут… Дай-ка им от меня по грошику, — она порылась в широкой своей юбке и высыпала мелочь, — знаю я: как недоглядишь за ними, так и осрамишься. Иди!
— Накапать в чашку камфары? — спросила Наташа.
— Делай что говорю! — прикрикнула Марья Ивановна. — Ретираду — и марш!
В столовой уже сверкали зажжённые свечи — и в шандалах, и в канделябрах. Жёсткая новая скатерть топорщилась на углах, а середина её была заставлена: мерцала серебряная и золочёная посуда, в высоких штофах переливались вишнёвые, малиновые, лимонные настойки, огурчики пупырились иголочками, красная рыба горела яхонтом, мясные закуски, буженина подёрнуты влагой…
Время шло. Мороз уже изрисовал все окна, а гостей дорогих всё не было…
Не звенят ли колокольцы?
Не хлопнули ли ворота? Но было тихо.
Небо стало тёмно-васильковым, свечи на окнах — будто жёлтые цветки. Серебряные подсвечники синими огнями отражались и меркли в высоких зеркалах в простенках… Часы бьют уже девять раз: бом-м, бом-м… Но и в этот час никто не возвестил о приезде гостей.
Стало совсем темно. Зазвонили в последний раз колокола…
Настала ночь, тревожная и тягостная…
Но так и не появился царь, так и не стукнул никто в ворота…
А на Москве-реке в тот день собралось великое множество людей.
Во льду была проделана большая прорубь, пар от неё поднимался в морозный воздух, а вокруг ходили толпы вслед за священником. Начиналось освящение воды…
Поодаль стояли иноземные гости, наблюдая невиданное зрелище, — все эти дни дивились они московским обычаям, как на Рождество плясали ряженые, как с наговорами да приговорами гадали на Святках, как теперь на водосвятие торжественно носили хоругви, мальчики славили Христа, и не умолкало «Во Иордане».
Ликование народа на реке достигло предела, когда подъехала шестёрка белых коней. Кони с красными попонами встали, и вышел император в шубе нараспашку, в красном шарфе и собольей шапке с синим околышем. Подняв руки, приветствовал народ, а получив благословение митрополита, присоединился к шествию вокруг проруби…
Хор, сперва нестройный, всё набирал и набирал силу. Зазвонили в колокола, на небе ярко вспыхнуло закатное малиновое солнце и осветило чудное зрелище. На берегу командовал своими гвардейцами Василий Долгорукий. Звучало:
— «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи… явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя… Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе…»
Не одни священники, но весь люд возносил голоса к небу в искреннем молении.
И вдруг из толпы в каком-то угаре выскочил молодой парень. Чужеземцы не поверили своим глазам, когда он скинул с себя полушубок, кафтан, порты, бросил шапку на снег, перекрестился: «Крещаюся в Москве-реке заради царя нашего батюшки!» — и бросился в прорубь. В воде плавали белые, как сало, льдинки, дул ветер, от мороза сохло горло, трудно дышалось. Выскочил из проруби мужик красный, точно ошпаренный, с выпученными глазами, крикнул: «А ну, кто ещё разболокаться могёт?»
«Дикая и дивная страна», — качали головами иноземцы. Ещё более удивились они, когда царь с одобрением оглядел смельчака, обнял его и расцеловал. А потом снял с себя шарф и кинул тому на шею.
Народ восторженно шумел, неистовствовал, но…
Но уже ударил роковой час для русского престола: здесь ли, ранее ли царь заразился чёрной оспой… Пришла та зараза через его объятие с мужиком или ветер принёс её из Замоскворечья? Или пролетела комета хвостатая, в которой, доказывают, и обитают те микробы, — неведомо…
Ещё не кончилось гулянье, ещё идут в церквах службы, но царю уже неможется… Долгорукий с тревогой глядит на него:
— Каково, государь, чувствуешь себя? Едем ли к Шереметевым?
Ослабевшим голосом Пётр ответствует:
— Гони, Ваня, к дому.
…А на Воздвиженке мечется, носится по дому молодая графиня Шереметева. Чуть не в полночь явился посыльный с цидулькой от Ивана Алексеевича: так и так, мол, государю нездоровится, не ждите…
— Наталья, еду прикажи, какая портится, раздать дворовым, — сурово говорит Марья Ивановна, — а прочую назад в ледники…
— Да бог с ней, с едой-то!.. А ежели что худое с государем приключилось?
Бабушка не утешила, не разуверила, сухо заметив:
— Ежели мор — за грехи он в наказание нам даётся… А ты береги себя да молись. Вот и весь мой сказ!
Утром Наталья бросилась в домовую церковь Знамения. Там упала на колени перед Казанской иконой Божьей Матери.
— Господи, Ты можешь всё! Убереги государя нашего от напасти!.. Не пожил ещё, не порадовался милостивец наш!.. Сколько раз наставлял Ты нас, Господи, на путь истинный, давал силы, когда сникал подавленный разум, просвети ж и теперь, пошли отблеск лучей Твоих…
* * *В числе гостей в тот крещенский день на Москве-реке была и знакомая уже нам леди Рондо, написавшая свои «Записки». А своей лондонской приятельнице она рассказывала:
— В те дни начала 1730 года великое веселье шло по России. Рождественские праздники были в полном разrape. Устраивались торжественные церемонии, которые русские называют водосвятием; при этом воспроизводят обряд Крещения нашего Спасителя…
По обычаю государь находится во главе войск, которые в этот день выстраиваются на льду. Несчастная хорошенькая избранница императора должна была в тот день показаться народу. Она проехала мимо моего дома с гвардией и свитой — такой пышной, какую только можно себе вообразить. Екатерина сидела одна в открытых санях, в дорогой собольей шубе, а отрок-император стоял на облучке позади её саней. Не припомню другого столь холодного дня, и я с ужасом думала, что надобно выйти из дому и ехать на обед ко двору, куда были все приглашены для встречи юного государя и его невесты при возвращении. Представляешь, эти молодые находились на льду, на таком морозе четыре часа!
Едва они вошли в зал, император стал жаловаться, что он замёрз и у него сильно болит голова. Лицо его было красно, воспалено, глаза больные — его отвели в опочивальню. Иван Долгорукий вышел и объявил гостям, что государю очень худо. Тут же призвали докторов. Опечаленная невеста попросила у гостей прощенья — и все разъехались.
Полагаю, что большинство москвичей в ту ночь не спали: всё гадали, что же случилось с бедным юношей.
Если простудился на водосвятии — то ничего, молодой организм выдюжит. Однако сведения из дворца поступали с каждым часом печальнее… Прошёл слух, что в городе чёрная оспа…
Между тем на 19 января была назначена свадьба императора. Съезжались иностранные гости, губернаторы, воеводы. Свадьба должна быть двойная — это к счастью! В тот же день должен жениться Иван Долгорукий на Наталье Шереметевой. О них говорили: вот где истинная любовь, должно быть, навеки!
Неожиданно пришло радостное известие: царю лучше, кризис миновал! Все радовались, предвкушая великие празднества. И вдруг — неразумный поступок больного! Оставшись один в своей опочивальне, будто желая себе смерти, Пётр Алексеевич поднялся с постели и растворил окно: «Дышать нечем!» Все передавали потом его последние слова: «Запрягай, Ваня, сани, еду к сестре своей!» Сестра его Наталья умерла незадолго до того.