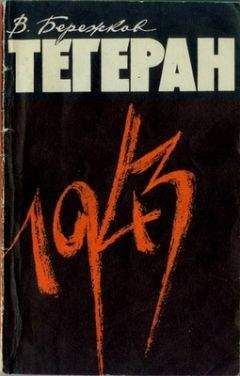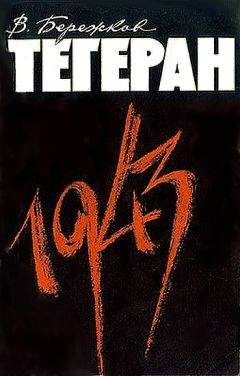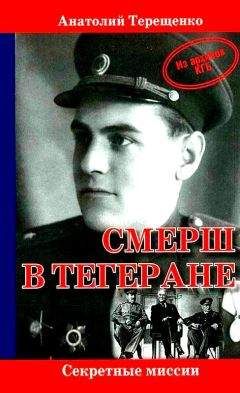Александр Нечволодов - История Смутного времени в России. От Бориса Годунова до Михаила Романова
По-видимому, в этот же день, 11-го утром, вышла неприятность для молодых. На дьяка Тимофея Осипова была возложена обязанность торжественно объявить Марину царицей, после чего должно было последовать принесение ей присяги. Готовясь к этому дню, Тимофей Осипов наложил на себя пост и двукратно причастился Святых Тайн. Затем, когда настало время, он, ничего не сказав жене, предстал перед царем и, в присутствии всех, громогласно начал свою речь словами: «Велишь себя писать в титулах и грамотах «цезарь непобедимый», а то слово по нашему христианскому закону Господу нашему Иисусу Христу грубно и противно; а ты – вор и еретик подлинный, расстрига Гришка Отрепьев, а не царевич Димитрий». Мужественный дьяк объявил затем, что не желает присягать иезуитке, царице-язычнице, оскорбляющей своим присутствием московские святыни, и хотел продолжать свою речь дальше, но был тотчас же убит окружающими и выброшен из окна.
14 мая Марина принимала в своих покоях всех московских боярынь. Подробностей об этом приеме польские летописцы не сохранили.
15-го числа состоялось деловое совещание польских послов с князьями Димитрием Шуйским и Мосальским, Михаилом Татищевым и дьяками Власьевым и Грамотиным. Опираясь на обещание, данное Расстригою королю, послы требовали, чтобы царь отдал Польше Смоленск и княжество Северское, а также Новгород и Псков или, по крайней мере, часть этих земель и оказал бы ему ратную помощь для овладения Швецией. За это Сигизмунд обещал помогать ему в войне с турками. Далее послы настаивали, что, в случае бездетности царя, его престол должен перейти к польской короне, а пока в Московском государстве необходимо открыть костелы и завести школы и коллегии (иезуитские для детей). Им ответили, что царь вскоре сам будет говорить с ними про все эти дела.
В ожидании же этих разговоров Лжедимитрий пригласил в тот же день Олесницкого на пир, устраиваемый для друзей Марины, уверяя его, что на нем «не будет ни цесаря, ни посла», а только одни друзья. «Но потом далеко иначе было», – говорит один поляк-очевидец.
После обеда Расстрига и Марина пустились в пляс; затем с ней начали танцевать и другие польские паны, а Лжедимитрий пошел переодеться. Между тем в палату стала набиваться прислуга находившихся в ней панов, чтобы взглянуть, как они веселятся. Марине это не понравилось, и, по словам пана Немоевского, «государыня» обратилась к трем своим приближенным со словами: «Скажите тем, которые сюда влезли, и их панам, чтобы они убирались, иначе я их велю отхлестать кнутами, да не единожды, а трижды». Это были единственные слова, которые дошли до нас от Марины, за время ее пребывания московской царицей. Они показывают нам ясно, насколько велика была «утонченная воспитанность» польских шляхтянок, которая, по словам Валишевского, «страдала от сношений с грубыми монахинями» Вознесенского монастыря.
Между тем в палату вернулся Расстрига; он скинул свое московское одеяние и явился теперь в красном польском жупане, богато вышитом зелеными и голубыми цветами и усыпанном жемчугом и бриллиантами. Самозванец взял Марину и начал с ней какой-то танец, в котором за ними должен был ухаживать пан Олесницкий. Олесницкий ухаживал, не снимая с головы своей венгерской шапочки – магерки, и вызвал тем сильный гнев царя: «Скажите всем, кто танцует в шапках, – крикнул он пану Стадницкому, – что с тех я буду снимать их вместе с головами». – «Смотрите, ваша милость, – сказал на это Олесницкий пану Немоевскому, снимая свою магерку, – господарь мне обещал, что тут не будет ни посла, ни цесаря, а теперь я вижу, что посла-то нет, но цесарь остался».
Пляски продолжались, но Расстрига зорко следил, чтобы никто не смел быть в шапках, и требовал, чтобы по окончании каждого танца посол и все гости кланялись ему в ноги.
Часть вечера 16 мая самозванец провел с посланным королевы Анны Ягеллонки, паном Станиславом Немоевским, который принес ему показать привезенный для продажи железный ларец с бриллиантами, рубинами и жемчугами. Лжедимитрий долго беседовал с ним как с добрым приятелем и оставил привезенные камни у себя, чтобы их лучше рассмотреть. Царь произвел отличное впечатление на Немоевского; он называет его высокопросвещенным, добрым, мягким и щедрым, впрочем, чаще на словах, чем на деле. «Наобещав десятки тысяч, Лжедимитрий, – говорит Немоевский, – охотно искал предлога для гнева, чтобы освободиться от данного слова… Роста был ниже среднего, с круглым смуглым лицом и сумрачным взглядом маленьких глаз; с русыми волосами, без усов и без бороды, он, несмотря на молодость, имел в лице что-то бабье».
Гибель самозванца
Вечер, проведенный с Немоевским, был последний в жизни Расстриги.
Мы видели, какое страшное негодование должно было производить все поведение Лжедимитрия как на бояр и духовенство, так и на московское население.
«Прибытие Марины с поляками еще ускорило ход событий, – говорит иезуит Пирлинг. – Они сами признавались впоследствии, что злоупотребляли своим положением и слишком предавались своим страстям. Самые возмутительные деяния начали твориться на глазах у всех.
Поляки не ведали ни стыда, ни совести. Знать шляхетская распевала, плясала, пировала в кремле под звуки шумной музыки, непривычной для слуха благочестивых россиян… Эти надменные гости держали себя особняком, не желая смешиваться с русскими; понятно, такая исключительность оскорбляла многих и вызывала раздражение. Еще хуже знатных господ вела себя челядь. Здесь были настоящие головорезы. Они положительно ни в чем не знали удержу. То бесчинствовали в православных церквах, то затевали буйство на улице, то оскорбляли честных девиц… При всем своем пристрастии к соотечественникам, Мартын Стадницкий не скрывает своего отрицательного отношения к их поведению в Москве.
По его словам, поляки вызывали ярость москвичей своей распущенностью. Они обходились с русскими людьми как с «быдлом» (скотом); они оскорбляли их всячески, затевали ссоры, а в пьяном виде способны были нанести самые тяжкие обиды замужним женщинам».
«Хуже всего было то, что сам царь уже не внушал к себе прежнего доверия. Димитрий, которым восторгались когда-то Рангони и о. Андрей (иезуит), был теперь неузнаваем. В нем совершился коренной переворот. Эта перемена сказывалась и в тривиальных (пошлых) шутках, бестактных притязаниях и в каком-то поистине роковом ослеплении…»
Во главе недовольных новым царем стоял князь Василий Иванович Шуйский; он деятельно служил самозванцу, постоянно находясь в непосредственной его близости, но вместе с тем столь же деятельно готовился к его низвержению, когда приспеет для этого должное время. Ближайшими товарищами Шуйского по заговору были: князья Василий Васильевич Голицын и Иван Семенович Куракин; они еще на свадьбе Расстриги решили его убить – «а кто после него будет у них царем, тот не должен никому мстить за прежние досады, но по общему совету управлять Российским государством».
К этим главным заговорщикам примкнули многие дворяне, в числе которых видное место принадлежало думному дворянину Михаилу Татищеву, затем большое количество московских обитателей, а также восемнадцатитысячный отряд новгородского и псковского войска, назначенный для похода в Крым и стоявший близ столицы. Перед переворотом у Шуйского собрались ночью главнейшие заговорщики – бояре, купцы, горожане и сотники и пятидесятники от полков. Шуйский прямо заявил им, что Димитрий был посажен с целью освободиться от Годунова и в надежде, что храбрый молодой царь будет оплотом православия и старых русских заветов. Но, к сожалению, оказалось, что вышло иначе: Расстрига всецело предан полякам, презирает нашу веру и все русское, почему страшная опасность грозит православию и Отечеству.
Положено было, что заговорщики, по звуку набата, кинутся во дворец с криком: «Поляки бьют государя», как бы для его защиты, чтобы не возбуждать подозрительности непосвященных в заговор москвичей, и убьют Расстригу; в то же время решено было ворваться в дома ненавистных поляков, отмеченных накануне русскими буквами, и перебить их. «Немцев, – говорит С. Соловьев, – положено не трогать, потому что знали равнодушие этих честных наемников, которые храбро сражались за Годунова, верны Димитрию до его смерти, а потом будут так же верны новому царю из бояр».
На 18 мая Лжедимитрий готовил военную потеху – примерный приступ к деревянному городку, сооруженному за Сретенскими воротами. Этим также воспользовались заговорщики и распустили слух, что царь во время потехи перебьет всех бояр, а затем хочет отдать Польше часть московских владений и ввести у нас унию. Слух этот, впрочем, имел некоторое основание, так как в этом замысле Лжедимитрия впоследствии признались братья Бучинские – секретари Расстриги. Конечно, скрыть все следы готовящегося обширного заговора было невозможно; в ответ на вызывающие действия поляков москвичи тоже относились к ним враждебно, и однажды толпа в 4000 человек стала осаждать дом, где жил Константин Вишневецкий; в пьяном виде многие горожане открыто ругали царя-еретика и поганую царицу. Сведения об этом доходили и до Лжедимитрия; но он, в своем безумном ослеплении, по-видимому безгранично веря, что будет царствовать, по предсказанию астрологов, тридцать четыре года, не придавал им большого значения. Между тем настроение московских жителей становилось уже явно враждебным по отношению к полякам, а ночью 15 мая в Кремле было поймано каких-то шесть заговорщиков, из которых трое были убиты, а трое преданы пытке.