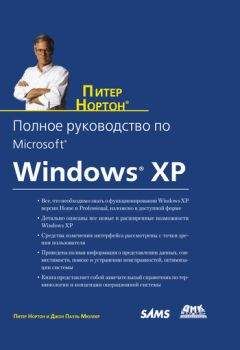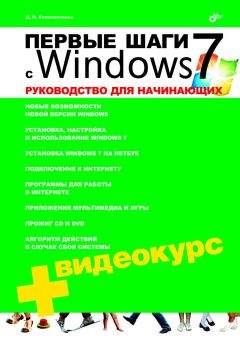Николай Губернаторов - Гордон Лонсдейл: Моя профессия - разведчик
Через несколько минут после «организационного» собрания первокурсников я уже сидел в аудитории, отведённой нашей группе. Постепенно собрались остальные студенты. Они входили по одному, сдержанно кивнув в дверях коллегам, и, без особого любопытства окинув взглядом небольшую светлую комнату с тремя рядами столов, садились на деревянные, отполированные не одним поколением их предшественников стулья.
Я отметил одинаковое, замкнуто-официальное выражение их лиц, словно заявлявших: «Не знаю, как вы, но я прибыл сюда по долгу службы». Весь вид их словно бы говорил, что им нет никакого дела до остального мира, равно как и остальному миру не должно быть никакого дела до них. Я не мог не заметить и несколько самоуверенную манеру держаться, и подчеркнутую аккуратность в одежде, характерную для человека, всю жизнь носящего военную форму.
Было заметно, что наша группа отличается от других. Тут не оказалось ни одного азиата или африканца, а в зале их было много. Средний возраст студентов был по крайней мере лет на десять выше. Наконец, почти все они были одеты в традиционную «форму» английских служащих — чёрный пиджак, чёрные брюки в серую полоску, белую сорочку с тёмным галстуком, котелок, в руке — туго скрученный чёрный зонтик, который почти никогда не используется по прямому назначению, а скорее служит тростью.
Бегло оглядев своих, подчеркнуто аккуратно одетых однокашников, я понял, что поступил правильно, оставив дома пиджак из грубошёрстного твида и серые брюки — большинство английских студентов одевались именно так, и было соблазнительно одеться на такой же манер, чтобы сразу же раствориться в общей массе. Именно этот костюм носил я и во время поездок по городу.
Но, поразмыслив, решил отказаться от твида — будущие соученики, узнав, что я канадец, сочли бы моё одеяние дешёвой попыткой сойти за англичанина или даже некоей формой подхалимства, чего сыны Альбиона не уважают. Как я уже сказал, одежда разведчика — не всегда он сам, не всегда его личные вкусы и привычки.
Итак, в тот сырой октябрьский день я был в костюме английского производства, который предусмотрительно купил в Канаде незадолго до выезда в Европу. Это был строгий тёмно-серый костюм фирмы «Лонсдейл и К°», что и решило выбор, который я сделал в знаменитом оттавском универмаге «Огилви». В то время тёмно-серые костюмы из «гладкого», без полосок материала были весьма модными среди американских и, следовательно, канадских бизнесменов, и я рассудил, что это именно та одежда, которая нужна мне на первый период жизни в Англии.
Почему-то англичане свято убеждены, что все поголовно американцы обожают яркие галстуки совершенно невероятных расцветок, что отнюдь не соответствует действительности, так как и среди последних немало таких, которые считают подобное признаком вульгарного вкуса. Тем не менее я решил не разочаровывать своих будущих знакомых и повязал именно такой петушиный галстук, что делало меня в глазах студентов типичным представителем Северной Америки.
Яркие, в красную и синюю полоску, носки усиливали это впечатление. И, наконец, почти белый плащ — а лондонцы не носят слишком светлых плащей из-за страшной копоти и отнюдь не низких тарифов в химчистке — логично завершал мой внешний вид.
Впоследствии я, конечно, перешёл на английскую манеру одеваться, что мои знакомые, надо полагать, отнесли за счёт благотворного влияния «старой доброй Англии». На самом деле, как видим, мотивы были несколько иными.
Но вот в аудиторию вошёл профессор Саймонс.
Знаменитый китаист, автор нашумевшей грамматики, построенной на математических формулах, Саймонс был худощав, коротко пострижен, сед. Он сильно сутулился и говорил с небольшим немецким акцентом, но одевался как все английские преподаватели — твидовый пиджак, в тон ему серые брюки (этакая униформа высших учебных заведений).
Он начал свою вступительную лекцию в шутливой манере, заставив студентов улыбнуться. Я уже знал, что в Англии считается хорошим тоном читать доклад, пусть даже на самую серьёзную тему, не слишком серьёзно и официально и что превыше всего в лекторе ценят чувство юмора, умение расшевелить аудиторию. Англичане справедливо считают, что с таким «гарниром» слушатель лучше усваивает знания.
— Увы, — сказал профессор, прохаживаясь по аудитории, — я полон зависти к вам, мои дорогие коллеги, ибо только сейчас, отдав без малого полвека Китаю, наконец понял то, что вам ещё только предстоит понять: овладеть этой великой и древней языковой стихией — невозможно! И это так же верно, как то, что никто из сидящих здесь, как бы ни старался, не сможет придать своему лицу черты китайской физиономии. Впрочем, каждому вольно попробовать это. В таком случае мне остается только пожелать удачи безрассудному…
Затем он рассказал несколько анекдотов по поводу китайских иероглифов.
— Вы должны знать, — говорил он, рисуя мелом на доске черточку, — что все иероглифы можно расчленить на двести четырнадцать элементов. Этот элемент — он означает понятие «крыша» — один из них. А вот этот — он провёл черту пониже — не что иное, как всем вам хорошо известное слово «женщина». А в целом эти две линии читаются как один иероглиф, означающий «спокойствие». Итак, сделаем для себя важный вывод: пока женщина под крышей — все спокойно. Надеюсь, джентльмены познакомят с ним своих дам?
Джентльмены улыбнулись, закивали. Шутка понравилась.
Всё, о чем говорил сейчас Саймонс, было мне давно известно, но я поймал себя на том, что с интересом слушаю английского профессора. Видимо, пропускать его лекции не стоило.
Заканчивая, Саймонс сообщил, что кроме языка им предстоит изучать современную историю Китая и китайскую философию. Последний предмет будет факультативным, достаточно сдать по философии зачёт без оценки.
Первый университетский день закончился так же бесцветно, как и начался. Звонок известил, что время, отведенное на лекции, истекло, и студенты чинно и неторопливо встали из-за столов.
Плотно закутавшись пёстрым шерстяным шарфом, вдыхая сыроватый воздух, я зашагал домой.
До «Белого дома» было минут двадцать не очень быстрого хода. Торопиться было некуда, и я двинулся пешком. Шаг у меня был быстрый, хотя я довольно заметно переваливаюсь с ноги на ногу, слегка выворачивая носок.
Дождь всё ещё накрапывал, в который уж раз за этот день омывая столицу. Улицы однообразно блестели лужами, мокрыми крышами сонно приткнувшихся к тротуарам автомобилей, мокрыми, в основном черного цвета, зонтами редких прохожих.
Но дождь не мешал мне иногда останавливаться у витрин лавок и магазинов — отнюдь не для того, чтобы убедиться, что за мной никто не наблюдает (хотя это вовсе не исключалось), а совсем из иных побуждений.
Здесь я был студентом, студентом из Канады, и роль, которую я исполнял и которая постепенно становилась моим вторым «я», подчиняла все мои действия, всю мою жизнь своим железным требованиям.
Свернув за угол, я очутился у витрины большого книжного магазина. Студенту полагалось интересоваться книгами, и на пару минут я застыл у стекла, за которым пестрели глянцем и красками новенькие томики. (Потом у меня вошло в привычку — после занятий заходить сюда и рыться в книгах.) Я отметил несколько новинок, выставленных в витрине. Книги стоили баснословно дорого, зато, как и везде в Англии, к полкам был свободный доступ и листать их можно было сколько угодно.
Дальше мой путь проходил мимо уютного серого особняка, в котором, как об этом извещала начищенная до блеска медная табличка, размещалась редакция журнала «Экономист». В то время я ещё не был знаком с издательским делом и искренне удивлялся, что этот всемирно известный журнал отвёл себе столь скромное помещение.
Ещё несколько шагов по узкому, всегда темноватому переулку, и передо мной возникла унылая темная глыба кинотеатра «Одеон». Как ни странно, но это имя носил ещё добрый десяток подобных заведений в Лондоне. Построенный по типовому проекту ещё до войны, в эпоху расцвета западной кинематографии, киногигант сейчас, как и другие кинотеатры, еле сводил концы с концами, дважды в неделю меняя программу, — лондонцы предпочитали вечера у телевизора.
Я довольно часто ходил туда, благо программа была непрерывной — в зал можно было войти когда угодно. Одетые в опереточную форму девушки-контролеры всегда были готовы указать фонариком свободное место.
Сейчас я остановился у входа, чтобы посмотреть программу, поскольку вечером собирался сюда сходить. И не только для развлечения…
Рядом с «Одеоном» блистал роскошными витринами один из самых дорогих лондонских магазинов — «Меймплс», специализирующийся на продаже модной мебели и домашней утвари. И хотя мебель эта стоила огромных денег, у витрин — они были обставлены, как жилые комнаты, — всегда останавливались прохожие: любопытно было посмотреть, как живут «там», в «обществе». Но мне особенно приглядываться тут было не к чему — канадскому студенту Лонсдейлу полагалось вести скромный образ жизни, да и к тому же мебель принадлежала к той немногочисленной категории вещей, которые абсолютно не интересовали человека, носившего это имя.