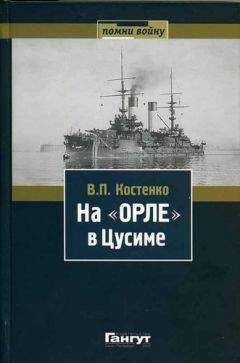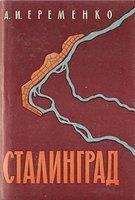Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике
Де Бройн и другие авторы назовут такую позицию всеобщим аллегоризмом, и вкратце ее можно охарактеризовать словами Ришара Сен-Викторского, который сказал:
«Habent corpora omnia ad invisibilia bona similitudinem». «Всякое видимое тело имеет сходство с невидимым благом». (Benjamin major, PL 196, col. 90).
6.6. Универсальный аллегоризм
В известном смысле Средневековье доведет до крайности завет Августина: если энциклопедия разъясняет нам значение вещей, о которых говорится в Писании, и если эти вещи являются элементами убранства нашего мира, о котором сообщает Писание (in factis), то фигуральное прочтение может касаться не только мира, каким он предстает перед нами на страницах Писания, но и просто мира как такового. Читая мир как некое собрание символов, мы наилучшим образом соблюдаем завет Дионисия и получаем возможность разрабатывать и присваивать божественные имена (а вместе с ними и основы нравственности, откровения, жизненные правила, модели познания).
На этом этапе все явления, ранее объединявшиеся под знаком средневекового символизма или аллегоризма, начинают различаться (внутри себя самого или, по меньшей мере, в наших глазах, коль скоро мы стремимся отыскать легко осмысляемую типологию), однако на самом деле символизм и аллегоризм постоянно проникают друг в друга, особенно с учетом того, что поэты также стремятся говорить языком Писаний.
Еще раз отметим, что различие между символизмом и аллегоризмом делается ради удобства. Идея метафизической всезначности рождается вместе с появлением трактата Псевдо-Дионисия «О божественных именах»; она предполагает возможность фигурального изображения, но на самом деле превращается в теорию analogia entis (аналогии сущего) и затем разрешается в видение вселенной как бесконечной цепи знаков, где всякое следствие является знаком собственной причины. Уяснив себе, что представляет собой вселенная для средневекового неоплатоника, мы приходим к выводу, что в этом контексте речь идет не столько об аллегорическом или метафизическом сходстве земного и небесного, сколько об их философском истолковании, связанном с представлением о непрерывной последовательности причин и следствий в «великой цепи бытия» (ср.: Lovejoy 1936).
Что касается библейского аллегоризма in factis (учитывая, что прочтение Писания осложняется стремлением выяснить, в какой мере в нем присутствует аллегоризм in verbis), то во всей святоотеческой и схоластической традиции присутствует бесконечное вопрошание к Святой Книге (Ориген писал в этой связи о необъятном лесе Писания (latissima scripturae sylva) (Ez. 4)), которое воспринимается Иеронимом, как таинственный божественный океан, лабиринт, по словам Иеронима (Ez. 14) (осеапит et mysteriosum dei, ut sic loquar, labyrinthum). В подтверждение этой герменевтической ненасытности приведем следующий отрывок:
«Scriptum sacra, morem rapidissimi fluminis tenens, sic humanarum mentium profunda replet, ut semper exundet; sic haurientes satiat, ut inexhausta permaneat. Profluunt ex ea spiritualium sensuum gurgites abundantes, et transeuntibus aliis, alia surgunt: immo, non transeuntibus, quia sapientia immortalis est, sed emergentibus et decorem suum ostendentibus aliis, alii non deficientibus succedunt sed manentes subsequuntur, ut unusquisque pro modo capacitas suae in ea reperiat unde se copiose reficiat et aliis unde se fortiter exercent derelinquat». «Подобно бурной реке, Святое Писание настолько переполняет глубины человеческого разумения, что непрестанно выходит за его пределы; оно утоляет жажду тех, кто пьет из него, но само никогда не оскудевает. Из него изливаются обильные потоки духовных смыслов, и когда одни проходят, появляются другие: нет, не проходят, ибо познание бессмертно, но когда появляются другие, являя всю свою красоту, предшествующие, не умаляясь, держатся за ними и, пребывая, за ними следуют, дабы каждый, в меру своей способности, преизобильно в нем восстанавливался и позволял другим осуществляться».
(Гилберт из Стэнфорда, In Cant. Prol., Leclerq 1948, p. 225).Столь же ненасытным будет и вопрошание мирского лабиринта, о котором мы уже говорили. Что касается поэтического аллегоризма (вариантом которого является литургический аллегоризм либо вообще любое повествование с помощью образов, зримых или словесных, которые создает человек), то их, напротив, надо истолковывать с помощью риторики.
Ясно, что с этой точки зрения рассуждение о Боге и рассуждение о природе весьма расходятся между собой, потому что представление о всеобщей семиотичности бытия стремится исключить использование изображений. По своему характеру оно носит теологический или философский характер, независимо от того, основывается ли на неоплатонических теориях света или на томистском гилеморфизме. Идея же вселенского аллегоризма, напротив, предполагает сказочное, галлюцинаторное видение мира, обращенное не столько на внешние его проявления, сколько на тайные смыслы. Мир исследующего разума противостоит миру сказочного воображения, а посредине находится аллегорическое прочтение Писания и сочинение откровенных поэтических аллегорий, в том числе и светских (примером чего является «Роман о Розе») (причем за каждым из этих типов восприятия закрепляется своя, строго определенная среда).
6.7. Художественный аллегоризм
Наверное, удачнее всего охарактеризовано это видение мира в стихах, приписываемых Алану Лилльскому:
«Omnis mundi creatura quasi liber etpictura nobis est in speculum; nostrae virae, nostrae mortis, nostri status, nostrae sortis fidele signaculum. Nostrum statura pingit rosa, nostri status decens glosa, nostrae vitae lectio; quae dum primo mane floret, defloratus flos effloret vespertino senio».
«В мире нашем все творенья, нам дают изображенье, как стекло зеркальное, нашей жизни и кончины, нашей участи, судьбины, верное, печальное. Мы по розе видим ясно, нашу участь и прекрасно, понимаем жизни ход: роза утром зацветает, а под вечер увядает, чуя старости приход».
(Rhytmus alter, PL 210, col. 579) (Алан Лилльский. О бренном и непорочном естестве человека // Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. М., 1972. С. 333 / Пер. Ф. Петровского).Осмысление искусства как аллегории идет рука об руку с аллегорическим пониманием природы. Ришар Сен-Викторский разрабатывает теорию, которая учитывает оба эти аспекта: все Божьи творения созданы для того, чтобы наделять человека жизненно важной информацией, тогда как среди вещей, созданных стараниями (industria) человека одни тяготеет к тому, чтобы предстать как аллегория, другие же лишены подобной функции. Словесные виды искусства — наиболее простой путь к возникновению аллегории, тогда как искусства пластические вырабатывают производные аллегории, подражая персонификациям, характерным для словесного искусства (PL 196, col. 92). Однако со временем аллегоричность в произведениях, сотворенных человеком, начинает ощущаться более остро, чем в творениях природы, и постепенно формируется позиция (впрочем, теоретического обоснования она так и не получила), прямо противоположная позиции Ришара: аллегоричность вещей выглядит все более бледной, сомнительной, условной, тогда как искусство (включая искусства пластические), напротив, рассматривается как тщательно разработанная система высших смыслов. Аллегорический смысл мира постепенно стирается, зато аллегорическое восприятие поэзии сохраняет свои позиции, оно привычно для многих и глубоко укоренилось в средневековом мышлении. В своих наиболее глубоких философских достижениях XIII век решительно отказывается от аллегорического истолкования мира, но зато создает прообраз аллегорических поэм — «Роман о Розе». Наряду с созданием новых аллегорий продолжается активное аллегорическое прочтение языческих поэтов (ср.: Comparetti 1926).
Такой способ создания произведений искусства и их восприятия кажется совершенно неприемлемым для современного человека, который склонен видеть в нем проявление поэтической сухости, интеллектуального оцепенения. Спору нет, для средневекового человека поэзия и пластические искусства — прежде всего способ наставления: св. Фома (Quaestiones quodlibetales VII, 6, 3, 2) отмечает, что поэзии свойственно представлять истину в образе. Однако это еще не дает полного объяснения аллегорического характера художественного творчества. Аллегорическое истолкование поэтов вовсе не предполагало, что поэзию подвергают какому-то искусственному и сухому прочтению: речь шла о том, чтобы поэты открылись слушателям, которые станут с ними рассматривать их творчество как стимул величайшего наслаждения, а именно наслаждения от восприятия текста в зеркале и с помощью загадок (per speculum et aenigmate). Поэзия всецело находилась на стороне разума. У каждой эпохи свое представление о поэзии, и мы не можем, исходя из нашего, судить о средневековом. Возможно, мы никогда уже не сможем пережить то утонченное наслаждение, с которым средневековый человек отыскивал в стихах кудесника Вергилия целые миры пророчеств (а может, он в этом случае был не столь уж далеко от современного читателя Элиота и Джойса?). Но раз мы не понимаем, что он на самом деле испытывал от такого восприятия подлинную радость, значит, мы просто не хотим понять средневекового мира. В XII в. миниатюрист, работавший над Псалтырем св. Албана Хильдесхаймского, изобразил осаду укрепленного города. Но, считая представленный им образ не слишком приятным для глаза или недостаточно обоснованным, он отмечает, что в его изображении идея представлена телесно (corporaliter), но затем может воспринимать его духовно (spiritualiter) и, созерцая сражение мысленно, представлять себе, какую борьбу ведут люди, вынужденные противостоять злу. Ясно, что, по мысли художника, подобное восприятие является более полным и более удовлетворительным в сравнении с восприятием чисто зрительным.