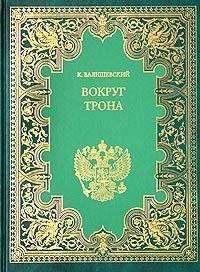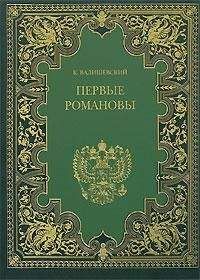Казимир Валишевский - Роман императрицы. Екатерина II
Если верить личным признаниям, Понятовский обладал еще одним достоинством, весьма неожиданным и почти невероятным в молодом человеке, побывавшем в Париже.
«Сперва строгое воспитание, — пишет он в отрывке своих записок, дошедшем до нас, — отдалило меня от всяких беспутных сношений; затем честолюбивое желание проникнуть и удержаться в так называемом высшем обществе, в особенности в Париже, охраняло меня в моих путешествиях, и целая сеть странных мелких обстоятельств в моих попытках вступить в любовные связи в других странах, на моей родине и даже в России как будто нарочно сохранила меня цельным для той, которая с той поры властвовала над моей судьбой».
Опять-таки Бестужев поощрил молодого поляка. Понятовский колебался. До него дошли мрачные слухи о судьбе молодых людей, пользовавшихся расположением русских императриц и великих княгинь, постигавшей их после того, как они переставали нравиться. Бестужев прибег к содействию Льва Нарышкина, великодушно указавшего ему путь, вероятно, хорошо ему известный. Нарышкин всегда был услужлив. Но, вероятно, Екатерина сама сломила последнее сопротивление Понятовского. Для этого достаточно было ее красоты, помимо всяких других ее чар. Вот как о ней отзывается впоследствии счастливый любовник: «Ей было двадцать пять лет; она недавно лишь оправилась после первых родов и находилась в том фазисе красоты, который является наивысшей точкой ее для женщин, вообще наделенных ею. Брюнетка, она была ослепительной белизны; брови у нее были черные и очень длинные; нос греческий, рот, как бы зовущий поцелуи, удивительной красоты руки и ноги, тонкая талия, рост скорей высокий, походка чрезвычайно легкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех такой же веселый, как и характер, позволявший ей с одинаковой легкостью переходить от самых шаловливых игр к таблице цифр, не пугавших ее ни своим содержанием, ни требуемым ими физическим трудом».
Глядя на нее, «он забыл, говорит он, что существует Сибирь». Вскоре лица, окружавшие великую княгиню, сделались свидетелями одной сцены, которая, должно быть, подтвердила ходившие уже слухи. В числе лиц, составлявших интимный кружок великой княгини, был и некто граф Горн, швед по происхождению, живший некоторое время в Петербурге и сошедшийся с Понятовским. Однажды, когда он входил в комнату великой княгини, маленькая болонка, принадлежавшая ей, принялась ожесточенно лаять как на него, так и на всех входивших гостей. Вдруг появился Понятовский, и маленький предатель бросился к нему, ласкаясь со всеми признаками живейшей радости.
«Друг мой, — сказал швед, отводя в сторону Понятовского: — нет ничего ужаснее болонок; когда я влюблялся в какую-нибудь женщину, я первым долгом дарил ей болонку и, благодаря ей, узнавал о существовании более счастливого соперника».
Сергей Салтыков, вернувшись из Швеции, не замедлил узнать, что у него есть преемник, но он не был ревнив; впоследствии Екатерина не могла хвалиться постоянством, но надо признаться, что ее первые любовники подавали ей в этом отношении дурной пример. До появления Понятовского Салтыков имел даже дерзость назначать любовнице свидания, на которые сам не приходил. Однажды Екатерина тщетно прождала его до трех часов ночи.
Таким образом Вильямс заручился могучим средством влиять на великую княгиню. Он, однако, не пренебрег и другими мерами. Он вскоре узнал о все возрастающих материальных затруднениях Екатерины. В этом отношении увещания Елизаветы оказались бесплодными. Несмотря на свою любовь к порядку и даже некоторые буржуазные экономные привычки, Екатерина была всю свою жизнь расточительна. Ее побуждали к этому как ее страсть к роскоши, так и ее взгляды на пользу некоторых расходов, вкоренившиеся в ее уме вследствие корыстных обычаев ее отечества и развившиеся под влиянием опыта, приобретенного ею в новой среде, в которой ей суждено было жить. Вера во всемогущество «на чаек» не покидала ее во всю ее жизнь. Вильямс предложил свои услуги, и они были ею приняты. Итог займов, произведенных Екатериной у Вильямса, нам неизвестен. Он, вероятно, был значителен: Вильямс получил carte blanche от своего правительства. Две расписки, подписанные великой княгиней на общую сумму в 50.000 р., помечены 21 июля и 11 ноября 1756 г., и заем 21 июля был, очевидно, не первый, так как, испрашивая его, Екатерина писала банкиру Вильямса: «Мне тяжело опять обращаться к вам».
II. Критическое положение Бестужева. — Он старается сблизиться с Екатериной. — Проект установления престолонаследия после Елизаветы. — Смелые предприятия Вильямса, в которых замешана великая княгиня. — Семилетняя война. — Отступление фельдмаршала Апраксина. — Обвинения, предъявленные Екатерине по этому поводу.
Бестужев восторжествовал поочередно над всеми своими врагами; но эти победы, потребовавшие напряжения всех его сил, истощили его. Он старился и чувствовал себя все менее и менее способным бороться с напором честолюбивых замыслов своих соперников, ненасытной злобы и беспрестанно прорывавшейся жажды мести. Елизавета также не прощала ему, что он как бы навязал себя ей. Она начинала обходиться с ним холодно. Она в то же время начинала подвергаться ударам апоплексии, и это давало канцлеру пищу для размышлений. Великий князь, в ближайшем будущем император, производил на него такое же печальное впечатление, как и на Вильямса. Он знал, что ему легко было добиться его фавора, но его усилия ни к чему не повели бы, или, скорей, привели бы его туда, куда Бестужев ни за что не желал идти. Узкий мозг Петра вмещал лишь одну политическую идею: преклонение перед Фридрихом. Он был с головы до ног пруссаком. Бестужев же оставался и намеревался умереть верным австрийцем. Оставалась, следовательно, одна великая княгиня. С 1754 г. в голове канцлера как будто зреет мысль о вступлении в непосредственное соглашение с ней.
Эта эволюция совершилась быстро.
Вскоре Екатерина заметила значительную и весьма благоприятную для нее перемену в штате, приставленном к ней для наблюдения за ней и прислуживания ее особе. Ее первая камерфрау, Владиславова, нечто вроде цербера женского пола, стала вдруг после разговора с канцлером «кротким ягненком». Вскоре после этого Бестужев помирился с принцессой Цербстской и внезапно предложил себя в посредники для переписки, которую она продолжала вести с дочерью и которая по его же внушению была ей до того строжайше воспрещена. Наконец он решился на героический шаг: через Понятовского передал великой княгине документ существенной важности. На этот раз Бестужев сжигал корабли и рисковал своей головой; но он раскрывал перед печальной супругой Петра новый горизонт, способный ее ослепить и служить искушением для ее нарождающегося честолюбия; он, так сказать, указывал ей путь, по которому ей суждено было впоследствии пойти на завоевание власти: это был проект, устанавливавший престолонаследие. Согласно ему, тотчас же после смерти Елизаветы надлежало провозгласить императором Петра, но совместно с Екатериной, которой следовало разделить с ним все его права и всю власть. Бестужев, разумеется, не забыл и самого себя. Он, собственно говоря, выговаривал себе всю власть, оставив Екатерине и ее супругу лишь то, что он в качестве подданного не мог от них отнять. Екатерина обнаружила в данном случае очень большой такт. Она не обескуражила автора проекта, но сделала некоторые оговорки. Так, она велела передать ему, что не верит в возможность его осуществления. Может быть, старая лиса Бестужев и сам этому не верил.
Он взял назад проект, переделал его, переработал, внес некоторые поправки и изменения, вновь представил его на обсуждение главного заинтересованного лица, затем снова переделал его и, казалось, был поглощен этой работой. С обеих сторон игра велась тонкая; но лед был сломан, и они не замедлили прийти к соглашению относительно других пунктов.
Итак, Екатерину приглашали с двух сторон выйти из замкнутого состояния, в котором она, против воли, впрочем, до сих пор пребывала. Она этому вовсе не противилась. Все ее природные вкусы и инстинкты толкали ее на эту дорогу. Первое время ее удерживала осторожность, вполне основательная, как мы увидим ниже, и ее первые шаги были нерешительны, но затем она стала все смелее и смелее, и наконец отважилась принять участие в предприятиях, чуть не приведших ее на край гибели. Следует, однако, сказать, что ни Бестужев, ни Вильямс, согласившиеся эксплуатировать нарождающееся влияние великой княгини, плод их совместных усилий, и оспаривавшие его друг у друга впоследствии, когда события их рассорили между собою, не вложили в свое дело ни скромности, ни сдержанности. Бестужев играл свою последнюю партию и старался увеличивать свою ставку всем, что попадалось ему под руку. Что касается Вильямса, он вдруг обнаружил отчаянную смелость. Обладая очень большим пониманием вещей и некоторой ловкостью, этот англичанин проявил вместе с тем и необычайную силу воображения и порядочное легкомыслие. В его уме обитала химера. Он устраивал события на свой манер, не совпадавший иногда с намерениями судьбы или Провидения. Когда события доказывали его неправоту, он отказывался считать себя побежденным. Это был английский гасконец. Когда в августе 1755 г. он добился возобновления договора, связавшего Россию с Англией, он запел победную песнь. Он обошел Бестужева, победил Елизавету и с помощью Понятовского соблазнил Екатерину. В воображении он уже видел сто тысяч русских солдат, отправляющихся в поход и наводящих страх на врагов его величества короля. Эти враги были, конечно, пруссаки и Франция. Вдруг он узнает о заключении Вестминстерского договора (5 января 1756 г.), включавшего Пруссию в число союзников Англии. Фридрих внезапно переменил фронт. Вильямс ничуть не смутился. Сто тысяч русских будут воевать с одним врагом, а не с двумя, вот и все. Они победят на берегах Рейна, вместо того, чтобы торжествовать на берегах Шпре. Придется только повести их немного подальше. В ожидании этого события отважный дипломат отдавал себя лично в распоряжение Фридриха II. С 1750 г. у последнего не было представителя в Петербурге. Вильямс предложил свои услуги. Через посредство своего коллеги в Берлине он установил очень деятельную переписку, сообщавшую его прусскому величеству все, что совершалось в России. Однако на известие об англо-прусском договоре Елизавета вдруг отвечает тем, что сперва вовсе отказывается ратифицировать свой собственный договор, а затем добавляет к ратификации его, состоявшейся наконец 26 февраля 1756 г., условие, в силу которого договор был действителен лишь в случае нападения Пруссии на Англию. Вильямс и тут не потерял головы. Среди этого перекрестного огня споров и среди вытекающего из него общего переворота в европейской политике, он остался верным своей программе, заключавшейся в обеспечении содействия русских войск в борьбе против врагов Англии. Его ненависть к Франции и руководила и ослепляла его. Даже Версальский договор (1 мая 1756 г.) не открыл ему глаз. Он не видел или не хотел видеть, что связанная отныне с Австрией Франция становилась для России не врагом, а естественной союзницей в силу новой группировки держав и интересов и товарищем по оружию в ближайших войнах. Именно в данную минуту он задумал использовать свои связи с молодым двором и влияние, которое он, как полагал, приобрел на поступки и симпатии великой княгини. Забегая вперед по этому пути, он даже уверил Фридриха, что Екатерина имела и возможность и желание остановить русскую армию, даже если по повелению Елизаветы она выступит в поход, и по меньшей мере предписать ей бездействие. Фридрих в этом разубедился, когда уже было слишком поздно: Апраксин взял Мемель и нанес кровавое поражение прусской армии (под Гросс-Егерсдорфом в августе 1757 г.). Но заблуждение это тянулось два года, в течение которых Вильямс, называя все время Екатерину «своим дорогим другом», по своему усмотрению заставлял ее (он был в этом уверен) менять симпатии, за или против прусского короля, хвастался тем, что выслушивал от нее советы, равносильные выдаче государственных тайн, и в общем надевал на великую княгиню маску простого шпиона в пользу державы, с которой Россия находилась в войне!