Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга четвертая
О том, как тяжело было ему расставаться со своими «сталинистскими» иллюзиями, Симонов рассказал в стихотворении, написанном в феврале—марте 1956 года, но увидевшем свет уже только в новые, постсоветские времена. (При жизни он не мог, да и не пытался его напечатать.)
Редактор просит выстричь прочь
Из строчек имя Сталина.
Но он не может мне помочь
С тем, что в душе оставлено.
Уж тут не до искусства,
Плохие ли, хорошие,
На то они и чувства —
Они к костям приросшие.
Я с ними прошагал войну,
Я с ними юность прожил,
И лучше я их прокляну,
Чем оскверню их ложью.
Доверчивость и слепота —
Все так, всего хлебнули,
И имя это изо рта
У нас порой тянули.
Но ведь у каждого из нас —
И так оно бывало,
Что, слушая его приказ,
В глазах слеза стояла.
И с родиной соединив
То имя, как судьбу,
Шли в бой, душой не покривив
До гроба и в гробу.
И как быть со слезами,
Что в трауре знаменном
Не кто-нибудь, а сами
Глотали мы в Колонном?
Кому легко все это,
Тот просто жил, чтоб выжить.
Глагола «выстричь» нету!
Другой есть, трудный, — выжечь.
Да, много выжечь надо,
И вольно ли, невольно,
Куда ни ткнешься взглядом —
Везде до кости больно.
Но нам на плечи взвалено,
На всех нас, без изъятья,
— За Родину, за Сталина! —
Разъять на два понятья.
Измерить все, что пройдено,
И имя то открыто
Взять отодрать от Родины
Везде, где зря пришито.
И этот труд ужасный
Проделает народ,
С душой прямой и ясной,
Сквозь всё идя вперед!
А строчки — дело совести.
По мне — так не спеши,
Пусть остаются повестью
Обманутой души.
Стихотворение очень личное, предельно искреннее. Но даже и в нем он не удержался от обязательного казенного словоблудия:
И этот труд ужасный
Проделает народ,
С душой прямой и ясной,
Сквозь всё идя вперед!
Бледностью, невыразительностью, поэтической беспомощностью (чего стоит одна только строка: «Сквозь всё идя вперед») это четверостишие резко контрастирует с исповедальным, лирическим строем всего стихотворения. Но это — ладно... Видно, считал, что без этого казенного поклона нельзя. Хуже — другое. То, что даже в самой этой своей предельно искренней лирической исповеди он не сумел обойтись без насильственно вколоченного в сознание современников насквозь фальшивого государственного мифа.
Я имею в виду формулу: «За Родину, за Сталина!»
Даже сегодня еще можно услышать, что с этими словами бойцы поднимались в атаку. Шли на смерть и умирали. А поскольку это нередко повторяют и люди старшего поколения, — те, что жили тогда, в те, ныне уже легендарные времена, — многие верят, что так оно на самом деле и было.
На самом деле, однако, ничего подобного не было.
Все мои друзья, прошедшие войну, решительно утверждают, что не только сами никогда не шли в атаку с этими словами, но и ни разу не слышали, чтобы это делал кто-нибудь из их товарищей.
В одном таком разговоре со своим другом-фронтовиком, который даже слегка горячился, доказывая мне, что ничего похожего в натуре никогда не было, я примирительно сказал:
— Я понимаю, ты не кричал, подымаясь в атаку: «За Родину, за Сталина!» Твои бойцы, а также другие командиры взводов и рот, наверно, тоже этого не делали. Но политруки-то небось кричали? Им велено было так кричать, они и кричали.
— Нет, — упрямо покачал он головой. — И политруки не кричали. Если ты хочешь знать, что в таких случаях делали и что кричали политруки, прочти стихотворение Слуцкого «Как делают стихи».
Стихотворение это я хорошо знал, но послушался, перечитал его.
Прочитайте его и вы:
Стих встает, как солдат. Нет. Он — как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
Землю (всю), глину (всю), весь песок.
Стих встает, а слова, как солдаты, лежат,
как славяне и как елдаши.
Вспоминают про избы, про жен, про лошат.
Он-то встал, а кругом ни души.
И тогда политрук — впрочем, что же я вам
говорю, — стих — хватает наган,
Бьет слова рукояткою по головам,
сапогом бьет слова по ногам.
И слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря,
и бегут за стихом, и при этом — поют,
мироздание все матеря.
И, хватаясь (зачеркнутые) за живот,
умирают, смирны и тихи.
Вот как роту в атаку подъемлют, и вот
как слагают стихи.
Знал ли всё это Симонов?
Наверно, знал. Не мог не знать. Но это знание не входило в его собственный опыт.
Войну он прошел специальным корреспондентом «Красной Звезды», полковником. А мой товарищ, который, горячась, упрямо убеждал меня, что, идя в атаку, «За Родину, за Сталина» никто не кричал, был сперва рядовым, потом — лейтенантом, командиром роты.
Да и у Слуцкого, который кончил войну майором, тоже был другой, не тот, что у Симонова, военный опыт.
Но вот как коснулся этой темы и как решил ее другой поэт, военный опыт которого был скорее сродни симоновскому.
Читая опубликованные недавно «Рабочие тетради» А.Т. Твардовского, я наткнулся там на такую заготовку к «Теркину на том свете»:
► ...Встреча Теркина на том свете с Верховным
(— Умер за меня?
— Нет, товарищ Сталин. За себя скорее.
— Но ведь кричал: «За Родину, за Сталина»?
— Как сказать, кричал больше матом.)
(Знамя. 2000, № 7. Стр. 113).Так этот замысел блеснул ему впервые. На следующей же странице «Рабочих тетрадей» он получил некоторое развитие. Родилось четверостишие:
Уж кому-кому не знать,
Как не нам, солдатам,
Что ходить случалось в бой
Чаще — просто — с матом.
Спустя еще несколько страниц на свет явился уже целый стихотворный отрывок, в который отлился этот первоначальный набросок:
Тот, кто службе жизнь твою
Придал безвозмездно,
За кого ты пал в бою,
Как тебе известно.
Теркин вскинул бровь и вкось
Поглядел вполвзгляда
И устало молвил:
Брось, Я прошу, не надо.
— Почему же? А печать?
Не забыл, вояка,
Что ты должен был кричать,
Как ходил в атаку?
— Знаешь, лучше умолчим,
Лучше без огласки.
На том свете нет причин
Для такой подкраски.
Нам ли, друг, не знать с тобой,
Грамотные оба,
Что в бою, — на то он бой —
Слов подбор особый.
И вступали там в права,
Вот как были кстати,
Чаще прочих те слова,
Что не для печати.
На том свете и в самом деле уже нет причин врать, приукрашивать, подкрашивать реальность. Но, видать, остаются еще причины, чтобы кой о чем умолчать, кое-что до поры не предавать огласке.
По этой ли причине или по другой какой, но в окончательном тексте «Теркина на том свете» разговор этот выглядит гораздо бледнее, даже, я бы сказал, туманнее, чем в первоначальном своем виде:
— Тот, кто в этот комбинат
Нас послал с тобою.
С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.
Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать.
Встав с гранатой. Ну-ка?
— Без печати нам с тобой
Знато-перезнато,
Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо;
Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...
Даже и на том свете не решается герой Твардовского (или сам автор не разрешает ему, или его — автора — «внутренний редактор») сказать то, что ему хотелось, с той прямотой, с какой он говорил об этом в первом авторском замысле. Тут говорит он это не в глаза самому Сталину, власть которого распространяется и на тот свет, хотя в описываемые времена он вроде еще жив (жив, но в то же время как бы и мертв — поистине жуткий образ), — а всего лишь фронтовому другу, который служит ему путеводителем по «тому свету». Да и говорит не так прямо, как это сперва было замыслено автором, а довольно-таки уклончиво.

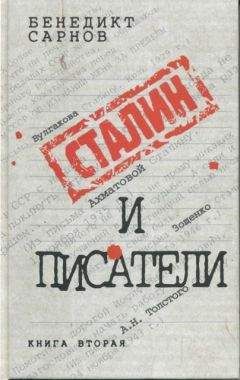
![Александр Листовский - Конармия [Часть первая]](/uploads/posts/books/239634/239634.jpg)