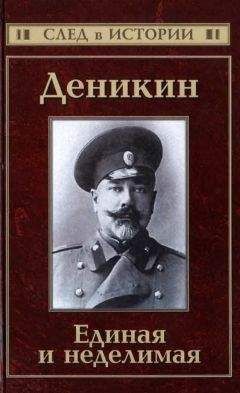Деникин. Единая и неделимая - Кисин Сергей Валерьевич
Столкнулся и с вопиющим казнокрадством, когда колоссальные суммы исчезали на сомнительное «снабжение войск» или строительство так и не появившихся в реальности рокадных «железных дорог». Миллионы просачивались сквозь пальцы.
И здесь не обходилось без популизма. В Петрограде приняли волевое решение увеличить содержание солдатских окладов в армии от 7,50 до 17 рублей (по разным чинам), во флоте до 15–50 рублей. Офицерам же, напротив, снизили содержание, убрав «представительские» и «фуражные» выплаты.
Чехарда в контроле за работой Ставки со стороны многочисленных чиновников Временного правительства привела к тому, что сначала, «сокращая громоздкий аппарат», упразднили инспекции по родам войск, а затем с громким скандалом стали их опять восстанавливать — санитарную, инженерную, авиационную, казачью. «Общественные организации — Красного Креста, земства и городов также выбивались всеми силами из фронтового военного управления и требовали для себя верховного возглавления в Ставке. Приходилось вести борьбу против этих индивидуальных стремлений, грозивших затопить полевой штаб волною не боевых интересов. Помню, как какой-то фронтовой или всероссийский ветеринарный съезд на этой почве выразил мне «недоверие» за недостаток культурности и непонимание высокого научно-общественного значения ветеринарии», — вспоминал Деникин.
К лету 1917 года Ставка совершенно утратила свое прежнее значение. Ранее ни одно лицо и учреждение в государстве не имели права давать указания или требовать отчета от Верховного, ни одно мероприятие военного министерства, хоть несколько затрагивающее интересы армии, не могло быть проведено без санкции Ставки. Ставка давала императивные указания военному министру и подчиненным ему органам по вопросам, касавшимся удовлетворения потребностей армии.
Смена власти привела к тому, что Ставку полностью подчинили военному ведомству (читай, лично Гучкову, а затем Керенскому), отобрав у нее функции назначения на руководящие посты, комплектования, снабжения, гражданского управления в прифронтовых областях. Командующие фронтов и флотов делали что хотели — Северный фронт, вместо увольнения в запас некоторого количества старослужащих, без разбора уволил всех выслуживших, оставив фронт только с зелеными новобранцами, Юго-Западный фронт перестал воевать и начал выполнять политические «указивки», формируя петлюровские «патриотические» отряды, избранный Центробалтом командующим Балтийским флотом вице-адмирал Андрей Максимов распорядился снять погоны с офицеров (их заменили нарукавными нашивками) и т. д.
Начштаба пытается апеллировать к военному министру, но тщетно — Гучкова уже «ушли», на его место водворяется «воин-гражданин» Александр Керенский, рассыпающий в массы революционные лозунги, густо сдобренные демагогией и утопизмом. Массы носят его на руках вместе с автомобилем, дамы тают в его присутствии.
Деникин пишет: «Ставка потеряла силу и власть и не могла уже играть довлеющей роли — объединяющего командного и морального центра. И это произошло в самый грозный период мировой войны, на фоне разлагающейся армии, когда требовалось не только страшное напряжение всех народных сил, но и проявление исключительной по силе и объему власти».
В письме Асе Чиж 14 мая 1917 года он поясняет: «Медленно, но верно идет разложение. Борюсь всеми силами. Ясно и определенно стараюсь опорочить всякую меру, вредную для армии, и в докладах, и непосредственно в столице. Результаты малые… Но создал себе определенную репутацию. В служебном отношении это плохо (мне, по существу, безразлично). А в отношении совести спокойно. Декларация воина-гражданина вколотила один из последних гвоздей в гроб армии. А могильщиков не разберешь: что они, сознательно или не понимая хоронят нашу армию? Ежедневно передо мной проходит галерея типов: и фактически (лично), и в переписке. Редкие люди сохранили прямоту и достоинство. Во множестве хамелеоны и приспосабливающиеся. От них скверно. Много истинного горя. От них жутко».
Из 68 армейских и 9 кавалерийских корпусов, растянувшихся на пространстве от Финляндии до персидского Хама-дана, реально боеспособными считались лишь редкие подразделения. Командующий Балтфлотом адмирал Максимов ни одного решения не мог принять без санкции Центробалта — установка мин и высадка десанта уже была немыслима, слишком опасно для «гордости русской революции».
В мае Деникин так и не смог добиться посылки на Моонзундский архипелаг пехотной бригады 42-го отдельного корпуса пограничной стражи — корпус окончательно разложился, а его командир генерал-лейтенант Григорий Мокасей-Шибинский даже не рисковал появляться в расположении своих частей.
На передовой по утрам солдаты бегали сначала до ветру, а затем к специально поставленным на «ничейной земле» так называемым почтовым ящикам, куда заботливые тевтоны клали газеты и предложения по обмену махрой, галетами, консервами, новостями. Полковые комитеты принимали постановления о запрещении стрельбы, рытье окопов, ибо «это означало наступление, а комитет против». Когда артиллеристы попытались было произвести пристрелку будущих целей, наблюдательный пункт обстреляла собственная пехота, ранили телеграфиста. Служивые перестали мыться, бриться, завшивели.
На передовой процветали пьянство, спекуляция, митинговщина. Офицеры даже не пытались вмешиваться, опасаясь за свою жизнь.
Хуже всего, что этот развал продолжался на фоне подготовки объявленного на всех углах и разрекламированного во всех газетах летнего наступления армии. Наступать в таких условиях было самоубийством. А «кончать с собой» главковерх Алексеев не собирался. В своем выступлении на созванном «Союзом офицеров армии и флота» 1-м Офицерском съезде 7 мая он обрушился с яростной критикой на Временное правительство, после чего 21 мая Керенский просто выпихнул его в отставку, заменив на Брусилова. «Пошляки! Рассчитали, как прислугу», — в сердцах выдал несостоявшийся «бонапарт».
В его последнем приказе войскам говорилось: «Почти три года вместе с вами я шел по тернистому пути русской армии. Переживал светлой радостью ваши славные подвиги. Болел душой в тяжкие дни наших неудач. Но шел с твердой верой в Промысел Божий, в призвание русского народа и в доблесть русского воина. И теперь, когда дрогнули устои военной мощи, я храню ту же веру. Без нее не стоило бы жить.
Низкий поклон вам, мои боевые соратники. Всем, кто честно исполнил свой долг. Всем, в ком бьется сердце любовью к Родине. Всем, кто в дни народной смуты сохранил решимость не давать на растерзание родной земли.
Низкий поклон от старого солдата, — и бывшего вашего Главнокомандующего.
Не поминайте лихом! Генерал Алексеев».
Уезжая из Могилева в Смоленск к родным, бывший Главковерх сказал своему начштаба: «Вся эта постройка, несомненно, скоро рухнет; придется нам снова взяться за работу. Вы согласны, Антон Иванович, тогда опять работать вместе?» Деникин заверил, что почтет за честь.
А вскоре после Алексеева Ставку покинули его начштаба, уставший доказывать правительству гибельность дальнейшей «демократизации» армии и ушедший командовать Западным фронтом (Марков с ним начальником штаба) вместо генерала Гурко, и все генерал-квартирмейстеры, которым Алексеев так и не дал возможности поработать самостоятельно.
«Временное правительство, относясь отрицательно к направлению Ставки, пожелало переменить состав ее, — писал Деникин Асе Чиж, — ухожу и я, вероятно, и оба генерал-квартирмейстера. Как странно: я горжусь этим. Считают — это хорошо, что «мало гибкости». Гибкостью у них называется приспособляемость и ползанье на брюхе перед новыми кумирами. Много резкой правды им приходилось выслушивать от меня. Так будет и впредь. Всеми силами буду бороться против развала армии».
22 мая в Ставку в Могилев приехал новый Главковерх Брусилов. Последний протопресвитер российской армии и флота отец Георгий Шавельский так вспоминал встречу Брусилова на вокзале в Могилеве: «Выстроен почетный караул, тут же выстроились Чины Штаба, среди которых много генералов. Вышел из вагона Верховный, проходит мимо чинов Штаба, лишь кивком головы отвечая на их приветствия. Дойдя же до почетного караула, он начинает протягивать каждому солдату руку. Солдаты, с винтовками на плечах, смущены — не знают, как подавать руку. Это была отвратительная картина».