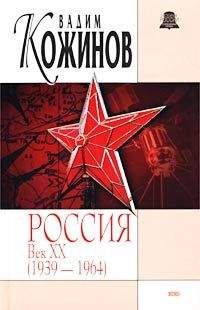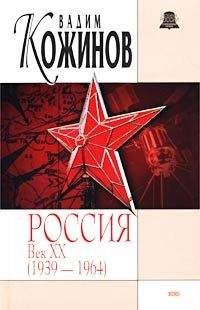Вадим Кожинов - Победы и беды России
Аввакум известен прежде всего как творец повествования о своем жизненном пути, знаменитого «Жития». Но в то же время этот великий художник слова создал целый ряд «посланий» и «писем», имеющих глубоко лирический характер. Вот фрагменты одного из таких его произведений, относящегося к 1669 году:
…Распространился язык мой
и бысть велик зело,
потом и зубы быша велики,
и се и руки быша и ноги велики,
потом и весь широк и пространен
под небесем по всей земли распространился,
а потом Бог вместил в меня
небо, и землю, и всю тварь…
…Не сподоблюся савана и гроба,
но наги кости мои
псами и птицами небесными
растерзаны будут и по земле влачимы;
так добро и любезно мне на земле лежати
и светом одеянну и небом прикрыту быти;
небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь…
От этих могучих строк не так уж далеко до величественной оды Державина «Бог» (1784):
…Частица целой я Вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю.
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я Бог!..
А эти стихи уже непосредственно предвещают «философскую» лирику Пушкина, Боратынского, Тютчева. Вместе с тем нельзя не сказать, что у Державина и, конечно, в еще большей степени Аввакума есть не могущая повториться позднее первозданность и целостность мировосприятия. Тютчев обращался к человеку — в том числе и к самому себе — с таким призывом («Весна», 1839 год):
Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!
А для Державина и тем более Аввакума эта «причастность» несомненна и изначальна. Вполне понятно, что обусловлено это именно первозданностью мировосприятия, недостаточной развитостью самосознания, в котором человек отделяет и противопоставляет себя миру. Но столь же ясно, что такое мироощущение порождает величественную и обладающую своей самобытной ценностью лирическую стихию.
Однако вернемся к вопросу о месте Аввакумова лиризма в развитии художественной культуры. В этом лиризме уже отчетливо наметился переход от средневекового мироощущения к духу нового времени. Конечно, творчество Аввакума прямо и непосредственно вырастает из всей предшествующей традиции. Но в то же время Аввакум отказывается от многих устоявшихся канонов. Это ясно выразилось в его знаменитых словах: «Аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущий и слышащий, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природной язык, виршами филосовскими не обык речи красить…»
Просто и глубоко лично звучит Аввакумово «слово плачевное», созданное ровно 325 лет назад и посвященное памяти ближайших соратниц — Феодосьи Морозовой, Евдокии Урусовой и Марии Даниловой, замученных в Боровской тюрьме:
Увы, увы, чада моя прелюбезная!
Увы, други моя сердечная!
Кто подобен вам на сем свете,
разве в будущем снятии ангели!
Увы, светы мои, кому уподоблю вас?
Подобии есте магниту каменю,
влекущу к естеству своему всяко железное.
Тако ж и вы своим страданием
влекуще всяку душу железную
в древнее православие.
Иссуше трава, и цвет ея отпаде,
глагол же Господень пребывает вовеки.
Увы мне, увы мне,
печаль и радость моя осажденная,
три каменя в небо церковное
и на поднебесная блещашеся!..
…Увы, увы, чада моя!
Никтоже смеет испросити
у никониян безбожных
телеса ваша блаженная,
бездушна, мертва, уязвенна,
поношеньми стреляема,
паче ж в рогожи обреченна!
Увы, увы, птенцы мои,
вижу ваша уста безгласна!
Целую вас, к себе приложивши,
плачущи и облобызающи!
Не терплю, чада,
бездушных вас видети,
очи ваши угаснувши в дольних земли,
их же прежде зрях,
яко красны добротою сияюща,
ныне же очи ваши смежены,
и устне недвижимы.
Оле, чудо, о преславное!
Ужаснися небо,
и да подвижатся основания земли!
Се убо три юницы непорочный
в мертвых вменяются
и в бесчестном худом гробе полагаются,
им ж весь мир не точен бысть.[47]
Соберитеся, рустии сынове,
соберитеся, девы и матери,
рыдайте горце
и плачите со мною вкупе
другое моих соборным плачем!..
В то время, когда Аввакум создал это «слово плачевное», в России уже широко развивалось силлабическое стихотворчество, принципы которого были заимствованы из польской поэзии. Строки в силлабических виршах (как их называли — от латинского слова «vers» — стих) состояли из одинакового количества — чаще всего одиннадцати или тринадцати — слогов; каждые две соседних строки оканчивались элементарной рифмой.
Но в «слове» Аввакума ничего этого нет. Характерно, что крупнейший представитель силлабического стихотворства, Симеон Полоцкий (1629–1680), сказал Аввакуму после жестокого спора с ним: «Острота, острота телесного ума! а се не умеет науки!» Это можно отнести и к поэтическому творчеству Аввакума: в нем нет силлабической «науки», но ярко воплощена «острота телесного ума», стихия глубокого, захватывающего человека целиком переживания. Аввакум вполне сознательно отказывался от стихотворческой «науки» его времени: уже приводились его слова, что-де он «виршами филосовскими не обык речи красить».
Силлабический стих, который был естествен для поэзии на польском языке с присущей ему акцентной системой (словесное ударение в польском языке всегда падает на предпоследний слог и значительно слабее русского ударения), явно не соответствовал природе русского языка. На силлабических виршах лежит печать искусственности.
Любимый ученик Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев (1641–1691) написал вирши на смерть своего дорогого учителя. Но этот его «Епитафион», в отличие от «слова плачевного» Аввакума, звучит холодно, искусственно, рассудочно:
Зряй, человече, сей гроб, сердцем умилися,
О смерти учителя славна прослезися:
Учитель бо зде токмо един таков бывый,
Богослов правый, церкве догмата хранивый.
Муж благоверный, церкви и царству потребный,
Проповедию слова народу полезный, —
Симеон Петровский от всех верных любимый,
За смиренномудрие преудивляемый… —
и т. д.
Эти строки, несмотря на свою стихотворную «науку», имеют более средневековый характер, чем «слово плачевное» Аввакума, проникнутое тем живым личностным духом, который составляет неотъемлемую основу позднейшей поэзии. Лиризм Аввакума предвосхищает это новое искусство, выразившееся, например, в поздних стихах Державина на смерть жены (1794):
Не сияние луны бледное
Светит из облака в страшной тьме,
Ах! лежит ее тело мертвое,
Как ангел светлый во крепком сне.
Роют псы землю, вкруг завывают,
Воет и ветер, воет и дом;
Мою милую не пробужают;
Сердце мое сокрушает гром!..
…Все опустело! Как жизнь мне снести?
Зельная меня съела тоска.
Сердце, души половина, прости,
Скрыла тебя гробова доска…
Если наметить самую общую схему развития русской лирики, то именно «послания» и «слова» Аввакума следует признать рубежом, вехой, с которой начинается новый этап в этом развитии, сменяющий средневековую эпоху. Однако в творчестве Аввакума новый лиризм не обрел и не мог обрести идеального художественного воплощения. Для этого было необходимо создание зрелой и совершенной поэтической формы, которая впервые предстала в творчестве Ломоносова.