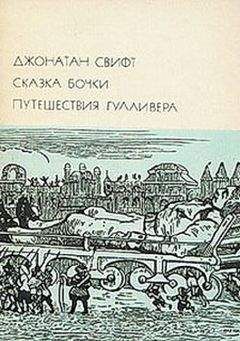Дмитрий Урнов - Робинзон и Гулливер
Конечно, у Джеймса это выражено все куда более осторожно и оговорочно, но, повторяем, дело не в нем, а в тенденции, от него пошедшей и сведенной в конечном счете именно к этому, к оправданию литературы нетворческой. Мерой оказываются авторские намерения, а не достижения, замысел, а не исполнение. Словом, мера претензий, а не достоинств, и, таким образом, в этой критической системе ущемленное авторское самолюбие может торжествовать с избытком: потуги, творчески неполноценные, сходят за чрезмерное бремя «сложного» замысла. Читателю же предлагается разделить с писателем тяжелую ношу, «понять» автора, надломившегося под бременем. А понять — значит простить, то есть согласиться принять некую словесную конструкцию за подлинную прозу. Если же читатель попробует зевнуть и закрыть книгу, критика, «серьезная и сознательная» в той же мере, как и та проза, которая по этим критическим рецептам построена, тут же упрекнет читателя в том, что невосприимчив он к «новому читательскому опыту». Читать трудно? А писать разве было легче?! Это в прошлом, скажут читателю, во времена Дефо или Диккенса, так было, что писатель писал, а читатель читал и только. Теперь же «читатель ставится в положение соавтора»[39].
Куда как заманчиво, однако, на самом деле это — критическая уловка, логическая, или, вернее, историко-литературная, передержка. А иногда просто ошибка, причем та же самая, какую допустил Свифт, намереваясь сокрушить Дефо, как «безграмотного писаку».
Желая разоблачить «подлинность» записок Робинзона, Свифт просчитался, если так можно сказать о человеке, который именно в результате «просчета» создал великую книгу. Но Свифт, как первый, кто решил сокрушить Дефо, действительно просчитался, когда повел атаку на «Приключения Робинзона» с той стороны, откуда они были как раз неуязвимы. Свифт хотел посмеяться над «подлинностью», над тем то есть, над чем уже посмеялся сам Дефо, взявшись вести литературную игру в «подлинность». Свифт попался, как попались те наиболее наивные читатели его собственных выдумок, которые, читая «Путешествия Гулливера», говорили: «Кое-что все-таки малодостоверно». Да в том-то и секрет, что не «кое-что», а от начала и до конца все недостоверно в смысле буквальном, зато все от начала и до конца является умело созданной видимостью «достоверности». Поэтому когда «подлинность» Робинзона пробовал разоблачить и пародировать даже Свифт, то все, что ему удалось сделать, так это создать конгениального Гулливера. Будь записки «моряка из Йорка» в самом деле подлинными, от них, конечно, не осталось бы и следа. Но творчески созданная «подлинность» несокрушима.
Ошибся в отношении Дефо и Диккенс, когда он говорил, что Дефо — «бесчувственный» писатель, иными словами, не умеет изобразить чувства. В пример Диккенс приводил смерть Пятницы, которая описана в самом деле до того между прочим, что мы, конечно, не успеваем пережить ее. Но сделано это во втором, неудачном, томе «Робинзона». Однако Дефо действительно «бесчувствен», ибо все, и даже самый чувствительный эпизод, когда видит Робинзон на тропе след ноги, написано именно так, между прочим. Все бесчувственно кратко, ибо написано о человеке, или, вернее, человеком, который 28 лет выдержал в одиночестве! Мог ли он выжить иначе, имея больше чувствительности? Таким образом, и «бесчувствие», как и «подлинность», — это не чувствительность фактическая, а творчески созданная. Но Диккенс, как и Свифт, был сам гений, поэтому его «ошибка» имела тот же результат, что и «ниспровержение», задуманное Свифтом: следом за Дефо (за романом «Полковник Жак») Диккенс создал «Оливера Твиста», одну из чувствительнейших книг в литературе.
Такого же рода «ошибку» парадоксальную совершил и выдающийся критик Лесли Стивен, современник Диккенса, который в споре со своим братом, тоже незаурядным литератором, Фитцджемсом Стивеном, доказывал, что Дефо умел всего-навсего «правдиво лгать». «А это еще не искусство!» — писал Стивен, предвосхищая позднейшие мнения о том, что у Дефо не было «искусства романа». Но когда с присущей ему тонкостью Стивен разобрал, как «обманывал» читателей автор «Робинзона» и почему они ему верили, он невольно показал, в чем же состоит подлинное искусство убеждать читателей.
Наконец, уже в нашем веке Джойс в романе «Улисс» решил пародировать один за другим классические стили, но когда, двигаясь по истории английской литературы от древних хроник, дошел он до XVIII столетия, то «вместо пародии создал нечто достойное по выразительности Дефо и Свифта»[40]. Почему так получилось? Потому, что пародировать достигнутый результат невозможно. Пародировать можно неудачу, смеяться над автором можно во всем том, где у него превратные представления о себе самом. Но до тех пор, пока автор творит в меру своих сил и понимает сам себя, он неуязвим. Можно пародировать «простодушие» «Капитанской дочки»? Нет, потому что это созданное «простодушие», как была искусно созданной «подлинность» у Дефо.
В этом смысле все «за» и «против» Дефо очень наглядно изложил крупный английский мастер прозы Джордж Мур, которого следовало бы скорее назвать знатоком прозы, «писателем для писателей», потому что он, конечно, в большей степени понимал, как надо писать, чем мог написать сам. Как обычно с такими людьми бывает, Мур, понимая многое в писательском деле до тонкостей, в то же время говорит вещи, подчас удивительно безвкусные. Когда, например, он вздыхал: «Бедный Стивенсон! Пытается выдать за приключенческий роман всего лишь цепь происшествий», — то это было сожаление деланное, плохо скрывающее неподдельную зависть. Напротив, можно сказать: «Бедный Джордж Мур, умевший написать удивительную строку, фразу, но… не книгу целиком». Словом, это один из «сознательных мастеров» в духе Генри Джеймса. Голсуорси, когда Джеймс умер, так и говорил, что его. место занял Джордж Мур.
Рассуждения о Дефо Мур написал в форме спора с самим собой, только своим «вторым я» сделал он одного своего литературного друга. В отличие от Джеймса Мур считал «Робинзона» романом, и романом классическим, однако он говорил о том, как можно было бы еще лучше написать эту книгу, в частности ее конец. Например, смерть самого Робинзона. Но на это его воображаемый собеседник сказал: «Но тогда потребовалась бы еще одна пара глаз»[41]. И этим все сказано. Одиночество Робинзона — вот что безупречно написал Дефо. Можно было бы и еще что-то о Робинзоне написать, то есть поставить перед собой новые повествовательные задачи, но Дефо сделал до конца, по крайней мере, то, что задумал.
Опыт одаренных и даже конгениальных литераторов, вступавших в единоборство с Дефо, является в сущности безошибочным ответом на вопрос, было или нет у создателя «Робинзона» «искусство», если, конечно, измерять «искусство» великой творческой силой, обладающей способностью цельного создания. Иначе понимает «искусство» критическая система, перекладывающая ответственность за художественный эффект на читателя, который то ли «поймет», то ли «не поймет» автора.
Конечно, со времен Дефо и Робинзона читательская публика изменилась, сделавшись прежде всего гораздо более обширной и разной. Писать в этом смысле стало действительно труднее, то есть писать так, чтобы «все поверили». Но и преувеличивать этой трудности не следует. Существовала она и во времена Дефо. Ко всем достижениям Дефо надо прибавить еще и создание читателя. Автор «Робинзона» не только создал книгу, он, заставив читать небывалое до тех пор число людей, создал читающую публику. Причем читали «Робинзона» буквально все, и весьма разные люди: те, кто в «Робинзона» верил буквально, и те, кто прекрасно понимал, что с ними ведется умелая литературная игра. Стало быть, роль соавтора не только новейшими «сознательными мастерами» возлагается на читателя.
От эпохи к эпохе искусство повествования менялось, предлагая читателям новый опыт, новые роли, но то были роли, которые, как истинные роли, всегда только разные маски, умело надеваемые автором (и только автором!) на одно и то же лицо — читателя. В сущности автор и читатель оставались на своих прежних местах. Автор был автором, читатель — читателем, хотя последнему и предлагалось играть то доверчивого, то скептика и т. д. Можно предложить читателю и роль соавтора, но при условии, что и эта роль создана самим автором в границах повествовательной иллюзии, тех же границах творческой условности, в которые укладывается «подлинность» Робинзона.
А происходит у новейших мастеров другое. Они возлагают на читателя не условную, ими выполненную, а как раз, напротив, натуральную, им самим не удавшуюся задачу— исполнение «сложного замысла». Читатель жалуется, что ему трудно. Писатель отвечает: «А писать мне было легко?» И к тому же на помощь ему приходит критика. Нехватку творческой силы они оправдывают тем, что нет конгениального читательского усилия. Чтение подменяется «постижением замысла», равно как демонстрация «искусства романа» отождествляется с творчеством собственно. И ни от автора, ни от критики не может читатель добиться ответа, с чем же имеет он дело: с искусным созданием или же всего-навсего с искусственно придуманной конструкцией.