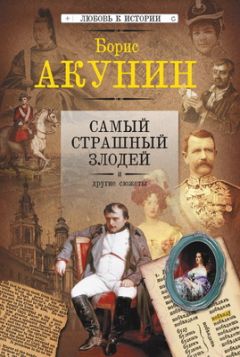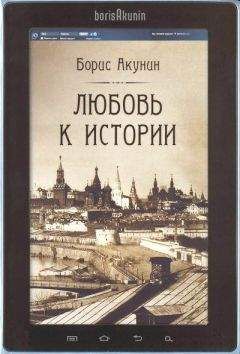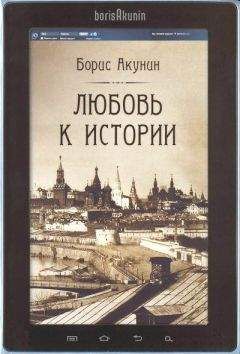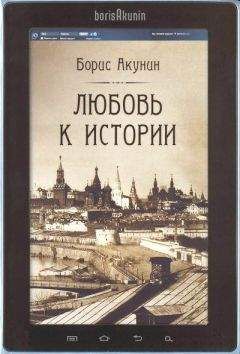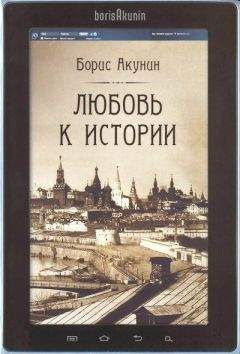Борис Бажанов - Воспоминания бывшего секретаря Сталина
По возвращении из ссылки Яков Свердлов вернулся к семье (у него была жена, Клавдия Новгородцева, и сын Андрей) и к своим новым высоким государственным функциям, и Вера Александровна перешла, так сказать, на холостое положение. Но когда её увидел Вениамин Свердлов, он немедленно ею пленился, и они поженились. Брачный союз их продолжался и во время моего с ними знакомства.
Четвёртый брат, Герман Михайлович, был, собственно им сводным братом: по смерти первой жены старик Свердлов женился на русской Кормильцевой, и Герман был их сыном. Он был много моложе (В 1923 году ему было девятнадцать лет), в революции участия не принимал, был ещё комсомольцем, на редкость умным и остроумным мальчишкой. Я был на четыре года старше его. Он очень ко мне привязался, постоянно у меня бывал и был со мной очень дружен. О моей внутренней эволюции (когда я постепенно стал антикоммунистом) он не имел понятия. Впрочем, мы с ним разговаривали обо всём, кроме политики.
У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твёрдый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь – его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ.
Ягода в своей карьере тоже немалым был обязан семейству Свердловых. Дело в том, что Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе распустил, а подмастерьем в граверной мастерской старика Свердлова. Правда, после некоторого периода работы Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, правильно рассчитывая, что старик Свердлов предпочтёт в полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет Божий его подпольная деятельность. Но обосноваться на свой счёт Ягоде не удалось, и через некоторое время он пришёл к Свердлову с повинной головой. Старик его простил и принял на работу. Но через некоторое время Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все инструменты и сбежал.
После революции всё это забылось, Ягода пленил Иду, племянницу главы государства, и это очень помогло его карьере – он стал вхож в кремлёвские круги.
Вдова Якова Свердлова, Клавдия Новгородцева, жила совсем незаметной жизнью, нигде не работала.
Как-то раз приходит ко мне Герман Свердлов и между прочим рассказывает: Андрей (сын Якова Свердлова и Клавдии Новгородцевой), которому было в это время лет пятнадцать, заинтересовался тем, что один ящик в письменном столе матери всегда закрыт, и когда он у неё спросил, что в этом ящике, она его резко оборвала: «Отстань, не твоё дело». И вот как-то, снедаемый любопытством и улучив момент, когда мать ненадолго где-то в комнате забыла ключи, он этот ящик открыл. И что же там оказалось? Куча каких-то фальшивых камней, очень похожих на большие бриллианты. Но, конечно, камни поддельные. Откуда у матери может быть такая масса настоящих бриллиантов? Ящик он снова закрыл и положил ключи на прежнее место.
Герман был того же мнения – это какие-то стекляшки. Яков Свердлов, кажется, стяжателем никогда не был, и никаких ценностей у него не было. Я согласился с Германом – конечно, это что-то ничего не стоящее.
Но понял я, что тут налицо совсем другое. Ещё до этого, роясь в архивах Политбюро, я нашёл, что три-четыре года назад, в 1919-1920 годах, во время своего острого военного кризиса, когда советская власть висела на волоске, из общего государственного алмазного фонда был выделен «алмазный фонд Политбюро». Назначение его было такое, чтобы в случае потери власти обеспечить членам Политбюро средства для жизни и продолжения революционной деятельности. Следы о соответствующих распоряжениях и выделении из государственного алмазного фонда в архиве были, но не было ни одного слова о том, где же этот фонд спрятан. Не было даже ни слова в особой папке – в моём сейфе. Очевидно, было решено, что о месте хранения фонда должны знать только члены Политбюро. Теперь я неожиданно находил ключ. Действительно, в случае потери власти не подходило ни одно из мест хранения, кроме того, чтобы спрятать этот фонд у какого-то частного лица, к которому Политбюро питало полное доверие, но в то же время не играющего ни малейшей политической роли и совершенно незаметного. Это объясняло, почему Клавдия Новгородцева нигде не служила и вела незаметный образ жизни, а кстати – и почему она не носила громкого имени Свердлова, которое бы ей во многом помогало во всяких мелочах жизни, и продолжала носить девичью фамилию. Очевидно, она была хранительницей фонда (впрочем, я не думаю, что это затем продолжалось много лет, так как падение советской власти с каждым годом становилось более маловероятным).
Должен добавить о Свердловых, что Вениамин погиб в 1937 году, Леопольд Авербах был расстрелян в 1938-м, Ягода, как известно, тоже в 1938-м; судьба Веры Александровны мне неизвестна. О Германе я ещё скажу.
Моё положение как секретаря Политбюро быстро укрепилось. Вначале Зиновьев и Каменев смотрели на меня с некоторым недоверием: «человек Сталина». Но очень скоро они пришли к выводу, что я занимаю этот пост не по благоволению Сталина, а потому, что обладаю нужными качествами. Первые три-четыре недели моей работы в Политбюро я продолжал ещё принятую на заседании технику, когда Ленин, а потом Каменев формулировали постановления Политбюро и диктовали их секретарше Гляссер, а та их записывала. Но вскоре я решил повторить мой опыт с Молотовым и Оргбюро и взять на себя формулировку большинства постановлений. Правда, когда я это проделывал с Молотовым, я не только позволял ему выигрывать много времени, но и очень помогал ему по сути, так как он формулировал медленно и трудно. Каменев был блестящий председатель, формулировал быстро и точно, и здесь речь шла только о выигрыше времени. Я обратился к Каменеву и сказал ему: «Я всегда очень хорошо подготовлен к заседанию, прекрасно знаю все нюансы в предложениях ведомств и их значение, а также всю историю вопроса; поэтому нет надобности всегда мне диктовать постановления, я их могу формулировать сам в смысле принятого решения». Каменев посмотрел на меня с некоторым удивлением, и его взгляд говорил: «Ты, юноша, кажется слишком много на себя берёшь». Но он ничего не ответил.
На первом же после этого заседании Политбюро обсуждался какой-то сложный вопрос народного хозяйства, в котором ни ВСНХ, ни Госплан, ни Наркомфин не были согласны. После долгих споров Каменев, наконец, заявил: «Ну, насколько я вижу, Политбюро склоняется к точке зрения Рыкова. Голоснем».
Действительно, голосование подтвердило позицию Рыкова. Тогда Каменев, бросив на меня быстрый взгляд, сказал: «Хорошо. Пошли дальше», – и перешёл к следующему вопросу повестки. Это носило характер трудного экзамена. Я написал большое и сложное постановление по многим и разным вопросам обсуждавшейся проблемы, как обычно, на картонной двойной карточке и передал её через стол Сталину. Сталин прочёл, не сказал ни слова и передал её Каменеву. Каменев внимательно прочёл, не сделал ни одной поправки и передал карточку мне с некоторым движением глаз, которое должно было обозначать «браво». С этого момента началась эта новая практика, предложенная мною, и Политбюро выигрывало много времени, не теряя его на формулировки, – обычно больше всего споров происходило из-за поправок, которые вносились участниками в устанавливаемый председателем текст. Теперь же в большинстве случаев устанавливался и принимался общий дух решения, а сформулировать, поручалось секретарю (конечно, под контролем председателя; но должен сказать, что почти никогда и в самых сложных и трудных вопросах Каменев не вносил изменений в мой текст).
Ясное дело, я чрезвычайно усложнил свою работу. Я ведь должен был заниматься техникой заседания наблюдать за выпуском вызванных, за обеспечением членов Политбюро нужными материалами), и следить, чтобы Политбюро не делало ошибок, принимая снова решения, которые были уже раньше приняты, или наоборот, вразрез с недавно принятыми (в таких случаях я брал слово и напоминал Политбюро), и внимательно следить за прениями, чтобы понимать все нюансы, и в то же время формулировать постановление по только что пройденному вопросу. Видя, как я с этим справляюсь, Зиновьев говорил: «Товарищ Бажанов, как Юлий Цезарь, может делать пять дел одновременно». Я не знал, что Юлий Цезарь обладал этой способностью, но не мог быть равнодушным к комплименту Зиновьева.
Между тем скоро я сделал ещё один шаг в моём аппаратном восхождении. На заседании тройки я сказал: «Вы принимаете на Политбюро очень много хороших постановлений, но вы не знаете, как эти постановления выполняются, и зачастую – выполняются ли они. Конечно, нецелесообразно создавать какой-то добавочный аппарат контроля за выполнением решения – всё в работе Политбюро абсолютно секретно, и нельзя увеличивать круг лиц, знакомых со всеми этими секретами. Между тем есть простой способ осуществить хотя бы в общих чертах этот контроль всех вопросов, обсуждаемых на Политбюро. Я хорошо знаком и с духом, и с буквой постановлений Политбюро – я их записываю и часто формулирую. Поручите мне контроль за выполнением постановлений Политбюро – я буду обращаться к руководителям ведомств, которым выполнение поручено; как бы ни оценивать вес этого контроля, уже одно постоянное напоминание руководителям о том, что есть глаз Политбюро, постоянно следящий за выполнением, не может не иметь положительного влияния».