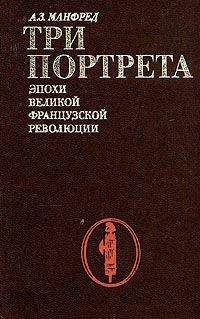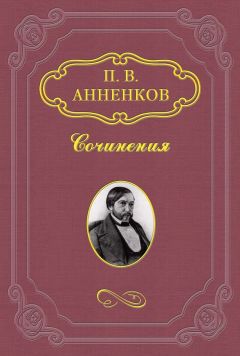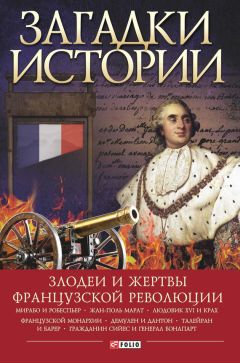Культурные истоки французской революции - Шартье Роже
Наконец, последнее. Эта небольшая книга — не подведение итогов и не исследование конкретных обстоятельств. Она была задумана и написана как эссе. Она не претендует на непреложность суждений, наоборот, ее цель — вызвать сомнения и поставить под вопрос расхожие гипотезы и сложившиеся принципы подхода к проблеме. Опираясь на толкование малоизвестных текстов, старых и новых, основываясь на работах историков, которые в последние годы перевернули наши представления о том, чем занимались и о чем думали французы XVIII столетия, предлагаемый подход призван обратить внимание читателей на неизученные аспекты далеко не новой проблемы.
Итак, мы не собираемся переписывать Морне, наше намерение более скромно, — а может быть, и более дерзко: поставить вопросы, время для которых в те годы еще не пришло.
Глава 1.
ПРОСВЕЩЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Размышляя об истоках Французской революции, мы не можем не обратиться к классическому труду Даниэля Морне «Интеллектуальные истоки Французской революции. 1715—1787» {1}. (В самом деле эта книга как бы определяет угол зрения, под которым следует рассматривать проблему, и постулирует необходимую, не подлежащую сомнению связь между распространением новых идей на протяжении всего XVIII столетия и свершившейся в конце этого столетия революцией. Рассуждая о проникновении новых идей, которые принято называть идеями эпохи Просвещения, в то, что он называет «всеобщим общественным мнением», Морне выделяет три закономерности. Первая закономерность — новые идеи движутся вниз по социальной лестнице от «высокообразованных кругов к буржуазии, к мелкой буржуазии, к народным массам» {2}. Вторая закономерность — они распространяются от центра (т.е. от Парижа) к периферии (к провинциям). Третья закономерность — скорость их проникновения в массы увеличивается на протяжении столетия, так что если до 1750 года мы имеем дело с предвидениями горстки мыслителей, то в середине века им на смену приходит непримиримая борьба идей, охватившая широкие слои общества, а после 1770 года новые принципы получают всеобщее распространение. Отсюда основной тезис книги: «Французскую революцию во многом предопределили идеи» {3}. Морне не отрицает важности и даже главенства политических причин, но непременным условием перерастания глубочайшего кризиса старой монархии в революцию он считает именно распространение идей Просвещения, критических и реформаторских разом: «политических причин, вероятно, оказалось бы недостаточно для того, чтобы вызвать Революцию, во всяком случае, так скоро. Дорогу этому важному событию расчистили и проложили мыслители» {4}.
Итак, несмотря на осторожность и оговорки (запечатленные в выражениях типа «во многом», «вероятно», «во всяком случае»), (Морне принимает за аксиому неразрывную связь Французской революции с Просвещением) Конечно, далеко не все причины Революции коренятся в философии эпохи Просвещения, но без преобразований в «общественной мысли», произведенных «мыслителями», это событие не произошло бы в тот момент, когда оно произошло. Таким образом, Морне предложил гипотезу, из которой вот уже полвека исходят все исследователи, занимающиеся историей мысли и социологией культуры XVIII века.
Стремление обрести истоки
Со временем, однако, возникли сомнения: может быть, вопрос поставлен неверно? Прежде всего неясно, (при каких условиях правомерно считать «причинами», или «истоками», того или иного события совокупность разрозненных и разнородных фактов или идей? Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, для того, чтобы отыскать эти «причины», нужно отобрать среди бесчисленных фактов, составляющих историю эпохи, только те, которые могли предопределить последующее событие. С другой стороны, необходимо задним числом осуществить реконструкцию, то есть собрать воедино предполагаемые «истоки», которые на самом деле представляют собой мысли и поступки ничем между собой не связанные, по своей природе разнородные и относящиеся к разному времени.
Известно, какой сокрушительной критике подверг Фуко, опираясь на идеи Ницше, подобную трактовку понятия «истоки» {5}. Оперирование этой категорией предполагает абсолютную линейность исторического развития, узаконивает бесконечные поиски корней, отрицает случайности, ибо считает событие предопределенным заранее, наконец, подобный подход не допускает ни того, что между явлениями может не быть неразрывной связи, ни того, что различные типы мышления и поведения могут не иметь между собой ничего общего. Стремясь «обрести истоки», историк, не всегда отдавая себе в этом отчет, делает несколько произвольных допущений: он исходит из того, что всякий момент истории является однородной целостностью и обладает идеальным и единственным значением, присутствующим в каждом факте, из которых он складывается и которые его выражают; что в основе истории непременно лежит преемственность; что факты взаимосвязаны и порождают друг друга, образуя непрерывный ряд, благодаря чему становится возможным утверждать, что один факт является «причиной» другого. Между тем, по мнению Фуко, «генеалогический», или «археологический», анализ, призванный дать верное представление о предмете с учетом переломов и сдвигов, должен непременно отказаться от этих классических понятий («целостность», «преемственность», «причинность»). Такой анализ должен, по примеру wirkliche Historie [3] Ницше, пересмотреть «связь, которую обычно устанавливают между внезапностью события и его неизбежностью. Существует традиция (как в богословской, так и в научной историографии), которая стремится растворить единичное событие в идеальной преемственности — телеологическом движении или естественном сцеплении обстоятельств. «Действительная» же история стремится представить событие во всей его исключительности и неожиданности» {6}. Если согласиться с тем, что историки должны не искать истоки, а «систематически учитывать дискретность» {7}, то окажется, что сама наша постановка вопроса неверна.
Понятие истоков чревато еще одной опасностью: оно предполагает телеологическое прочтение истории XVIII века, при котором вся эпоха рассматривается в свете ее неминуемого финала — Революции, вследствие чего в расчет принимается лишь то, что ведет к этому неизбежному концу, — Просвещение. Между тем, если что и заслуживает пристального изучения, так это ретроспективная иллюзия, которая заставляет нас «двигаться вспять, отыскивая в прошлом предзнаменования уже свершившихся событий, и смотреть на прошлое из этой конечной точки, которая, быть может, вовсе не является единственно возможным его завершением» {8}. Не путает ли классическая традиция причины и следствия, когда утверждает, что Просвещение породило Революцию? Не вероятнее ли другое: что Революция придумала Просвещение, желая доказать свое законное происхождение и ища свои корни в основополагающих текстах философов, для чего примирила их авторов, несмотря на бросающиеся в глаза различия, и сплотила их задним числом, представив инициаторами разрыва со старым миром {9}? Учредив, хотя и не без споров, пантеон предков, куда вошли Вольтер и Руссо, Мабли и Бюффон, Гельвеций и Рейналь, приписав если не всем философам, то самой философии Просвещения резкую критику существовавших порядков, деятели Французской революции создали теорию преемственности, которая является прежде всего попыткой оправдать себя и переложить ответственность на своих прародителей. Таким образом, видеть в идеях века «истоки» события, как это намеревался делать Морне, означает подражать, пусть и безотчетно, поведению действующих лиц ушедшей эпохи и расценивать преемственность, являющуюся идеологическим конструктом, как исторически достоверный факт.