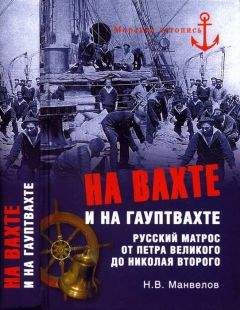Пьер Мак-Орлан - На борту Утренней Звезды
Мои обязанности, сводившиеся к мытью жбанов и бутылок, не стесняли свободу моей фантазии. Границами мира, как он мне представлялся тогда, были грязная уличка и большая зала кабачка, где табачный дым окутывал таинственной дымкой все лица.
Среди посетителей кабачка, кроме Мюгэ, мое внимание привлек еще солдат, в свое время служивший писцом на одной из галер Тулона. Это был маленький, всегда тщательно выбритый старичок. Его звали Пелиссон. Болезнь заставляла его волочить ноги не совсем обычным способом, близко напоминавшим походку закованных каторжников.
- Когда я служил писцом на королевской галере, - рассказывал он, - я помещался в одной комнате с начальством. Я зарабатывал двенадцать экю в месяц. На эти деньги я пил, ел и одевался. Я всегда мечтал о том, что наступит день, когда я смогу открыть собственный кабачок. Я плавал всю жизнь с надеждой купить кабачок. Вот.
- И все-таки тебе не удалось его купить? - спрашивали солдаты.
- Надо сказать, что, оставив службу, я поселился вместе с одной девицей, которую я встретил на Мальте. Она была блондинкой, несмотря на свое еврейское происхождение; ее отца сожгли на костре Святой Инквизиции. Так вот...
Его больше не слушали. Матросы и солдаты болтали уже о другом. Старый писец покачал головой, заплатил, открыл дверь, попробовал рукой туман и скрылся.
Я стоял в возбуждении среди залы и смотрел на этих людей широко раскрытыми, восторженными глазами. То и дело одна из наших девиц, Марион Ля-Пенерес, обращалась ко мне со смехом. Она щипала меня за ноги, когда я разносил стаканы. Однажды она дала мне выпить из своего стакана. Писец сидел рядом с нею. Я слышал, как он прошептал: - Назначь ему свидание! Девица улыбнулась и ничего не ответила. - Назначь ему свидание! - повторил Пелиссон. Марион передернула плечами. И старик сказал мне: - Хозяина нет, садись и пей вино. - Марион пододвинулась ко мне. Когда я ощутил, что ее нога касается моей, я хотел отодвинуться.
- Ты меня боишься, - сказала девушка. Она повернулась к своему собеседнику. - Он ничего еще не знает, он никогда еще не видел женщин.
- Ты лжешь, - сказал я Марион, и мой голос задрожал от гнева. - Ты лжешь, я знаю, что это такое. Я уже видел девчонку без юбки.
- Make quir (неправда), -презрительно произнесла Марион.
Она встала, пошатываясь, и протянула мне стакан.
- Пей, глупыш! Это-вино.
Только что вошедший Мюгэ сел рядом с Марион. Его сабля стукнулась о скамью.
- Марион, я знаю, что такое женщина. Слышишь ты, Марион! - И я рассказал ей историю о том, как я из любопытства задушил в лесу крестьянку, которую я любил.
- Какой дурак! Какой дурак! - повторяла Марион, смотря на меня удивленно.
Писец дружески похлопал меня по щеке. Он посмотрел на Мюгэ. Я хотел, чтобы он сказал что-нибудь, и я прибавил враждебно:
- Ну что ж, я не сделал никакого зла.
- Молчи, - произнесла Марион.
Когда хозяин вернулся он послал меня на двор мыть бутылки.
Моя злоба не утихла. Я разговаривал сам с собой. Необъятная сила распирала мою грудь.
Я ни о чем не сожалел. Я только был озадачен малым успехом моего рассказа. Эта развратница и эти грубые люди почти не обратили на него внимания.
На дворе меня разыскал Мюгэ, по обыкновению, пришедший сюда мочиться. Повернувшись ко мне спиной, он сказал:
- Что ты собираешься делать? Честное слово, тебе не место здесь!
- Почему?
- Ты отправишься в плавание со мною и с писцом. Завтра я познакомлю тебя с Мак-Гроу, ей-богу! Тебе это пойдет на пользу.
- Правда, Мюгэ, - ответил я с восторгом, - я отправлюсь в открытое море, как другие. А потом я куплю себе кабачок и заплачу за него королевским золотом.
- Королевским золотом, - произнес Мюгэ, подтягивая штаны.
III
Снег спадал на пустынные поля. Вдали море разбивалось о береговые скалы. Казалось, гремели тысячи пушек. Чуя добычу, пронзительно кричали чайки.
Мюгэ шел вереди, освещая фонарем дорогу. Я следовал за ним с Пелиссоном.
Железная оправа фонаря отражалась на снегу в виде огромного андреевского креста, а наши тени вытягивались странно и жутко, перекидываясь на кустарники, запушенные снегом.
Снег хлестал нам в покрасневшие лица; наши глаза слезились.
- Спаси создатель... - бормотал Мюгэ, крестясь свободной рукой.
Все кругом охватил снежный вихрь. Все тропинки стерлись. Мы двигались втроем, при смутном свете нашего фонаря; мы направлялись к определенной точке побережья, достигнуть которой мы должны были на рассвете. Мы шли к маленькой светлой точке, колеблемой ветром, - к фонарю "Утренней Звезды", подвешенному на мачте, у которой дрожал матрос с посиневшими руками.
- Ты увидишь Мак-Гроу, - трещал Пелиссон, - ты принесешь присягу на библии, ты увидишь Жоржа Мэри и всех остальных. А может быть, ты увидишь еще Его Высочество, настоящего рыцаря, старого хранителя адмиральского стяга.
- Он носил всегда голубой камзол, красные штаны и чулки, - произнес Мюгэ, согнувшись вдвое, чтобы защитить свою треуголку от ожесточенных порывов ветра.
- Ты увидишь... - продолжал Пелиссон. - Бог-создатель! Я ничего не вижу... и фонарь, ей-богу же, потух.
Мы остановились среди снежной тьмы, прижавшись друг к другу. Фитиль чадил в фонаре.
Море начало успокаиваться. Вдали, как нам казалось, наступило перемирие между волнами и утесами. Пелиссон дрожал всеми членами. Мюгэ лязгал зубами.
С моря неслись звуки, напоминавшие то скрип блоков, то пение гобоя. На черном небе зажглась единственная звезда.
- Южный Крест! - дружно прошептали мои спутники.
И Пелиссон, опустившись на колени, начал молитву.
Мюгэ последовал его примеру и заставил меня сделать то же.
- Да прославится имя твое, милосердный Христос, - плакался Пелиссон.
- Аминь, - вторил ему Мюгэ.
Голос Пелиссона приобрел совсем девическую нежность.
И ветер рассеял унылые звуки гобоев. Мы насторожились.
- Ты ничего не слышишь больше? - спросил Пелиссон.
Я прислушался.
- Кончилось, - произнес Мюгэ, поднимаясь.
- Тогда в путь! - объявил Пелиссон, - несчастье нас миновало. Эта молитва - самая лучшая. Когда мы плавали в открытом море на галерах Тулона, она всегда помогала нам.
- Ты напишешь ее на кусочке бумаги для мальчишки, - сказал Мюгэ.
Мы вышли на берег. Молитва успокоила бурю и снег. Вдали на мачте "Утренней Звезды" спокойно показался желтый огонь.
Пелиссон свистнул, вложив пальцы в рот. Мы направились к морю.
- Осторожнее, здесь ямы, - предупредил Мюгэ.
С корабля, черневшего на светлом фоне неба, раздался ответный свист.
На палубе показался свет, и я услышал команду на неизвестном мне языке.
- Это Жорж Мэри, - сказал мне Мюгэ.
Жорж Мэри держал фонарь в вытянутой руке. Он стоял на носу маленькой лодки, направлявшейся к берегу. И освещал путь, избранный двумя моими приятелями к покупке маленького трактира, в котором заключались все возможности счастья, рисовавшиеся моему воображению.
IV
Боцмана звали Питти. Это был старый моряк из Тулона, которого ножевая расправа привела на галеры. Он долго бороздил своим веслом воды Средиземного моря, по праздникам развлекаясь музыкой барабанов и гобоев. Каторжники умели извлекать из этих инструментов звуки, которые приятно было слушать на воде, среди ночной тьмы.
При содействии одного из товарищей, получившего за это золотой, ему удалось бежать и скрыться на африканском побережьи, а оттуда попасть на "Утреннюю Звезду", где его отменные качества сразу оценил Мэри.
Старый солдат французской гвардии, знавший Равено-де-Люссан, Нантес, Ансельм Питти и я были, как мне кажется, единственными французами на корабле. Гвардейца звали Марсо; мы были, как он говорил, четырьмя ветвями одного дерева. Тогда я не владел еще английским языком и поэтому дружил с Марсо, с Нантсем и с Питти. Позже я сделался другом Мак-Гроу. Я усвоил привычку мыслить, как Мак-Гроу, ибо он был человеком, созданным для моего обожания. Я перенимал его жесты, я стремился относиться к людям и вещам так же, как это делал он.
Питти учил меня ремеслу, он познакомил меня со сложной системой корабельных снастей. Вместе с ним мы складывали добычу в тюки, и каждый вечер я зажигал лампу над маленьким ящиком, в котором помещался компас.
Несколько раз я взбирался на главную мачту и рассматривал горизонт в направлении Нанта, следя за надувшимися парусами и предвкушая волнующее напряжение схватки. На службе у Жоржа Мэри я превратился в юного Ганимеда, преданного и скрытного.
Я знал теперь все хорошее и плохое об "Утренней Звезде", знал, какую роль суждено играть нам до самой смерти - морским разбойникам.
Море раздвинуло границы моего воображения, столь узкие вначале. Оно потрясло меня в первые дни, когда мне пришлось с ним бороться. Позже, несмотря на многие непредвиденные обстоятельства, я всегда рассматривал его как естественную арену моих поступков и замыслов. Так я отношусь к морю и сейчас, когда пишу, в комнате Нанси, и вижу, как мой зеленый попугай покусывает жердочку.