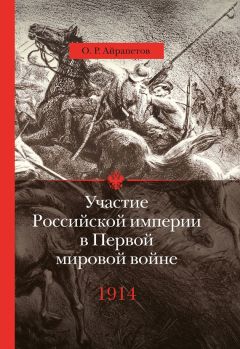Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
Конструктивистский анализ сместил исследовательское внимание с результатов на процессы и механизмы их запуска, однако и его применение само по себе еще не панацея. Здесь понятие «нация» обрело исторически изменчивый характер и вместе с ним генеалогию создания и бытования. Выполненные в данном ключе работы высветили когнитивную экстрасложность имперской ситуации[7]. С одной стороны, встроенная в мировое взаимодействие Россия обрела в них амбивалентный статус «колонизующей колонии», то есть пространства, испытывающего культурные (в том числе нациестроительные) влияния Западной Европы и самого выступающего в роли цивилизатора по отношению к «нерусским народам» и внутренним окраинам[8]. С другой стороны, анализ рождения, распада, трансформации различных групп внутри империи потребовал от исследователей столь жесткой привязки к контексту, что породил сомнения в самой возможности типологизации отдельных «казусов» и использования обобщающей теории.
Кроме того, объективная сложность работы с нестабильной (неравновесной) системой создала как следствие асимметрию в российском «народоведении». Произошел явный перекос в сторону изучения сообществ, механизмов и дискурсов управления, конфессиональных и прочих идентичностей пограничья, в то время как «русские» и «центр» (за некоторыми важными исключениями) оказались за кулисами данного действа. Показательный тому пример являет серия издательства «НЛО» «Окраины Российской империи», в которой империя представлена отдельными томами по окраинам (т. е. как совокупность регионов, в которой центр присутствует как невидимая зона притяжения)[9]. Соответственно, в историографии империи есть «нерусские» народы, а «русские» в качестве подданных, а не абстрактных не-инородцев так и не появились. Аналитики социогуманитарных исследований признают, что «центр» и «русский вопрос» как самостоятельные проблемы применительно к истории Российской империи сейчас почти не изучаются[10]. В связи с этим тезис о том, что империя сдерживала и препятствовала развитию русского национализма, остается в историографии влиятельным допущением.
В оправдание русистам надо сказать, что долгое время схожая ситуация наблюдалась в американистике и европеистике. Культурная неоднородность, широкие зоны взаимодействия «белых» (или «западных» людей) с другими народами, их локальная и социальная динамичность, историческая изменчивость требовали разработки и применения к данным группам более гибкой и сложной аналитической рамки, чем в случаях изучения «меньшинств». Подобным же образом деконтекстуализация «русских» из имперского окружения, игнорирование зон их взаимодействия с локальными культурами, использование одномерного ракурса описания порождают небезупречные объяснительные теории. Почти сразу после появления они размываются не укладывающимися в них примерами и свидетельствами.
На сегодня применительно к теме «российского народоведения» наиболее релевантным мне представляется подход, последовательно реализуемый создателями «Ab Imperio» – международного издания, специально посвященного проблемам отечественного национализма. В «новой имперской истории» Россия рассматривается в качестве органичной части мирового устройства, ни один компонент которого не является системой с фиксированными местами/ролями. Выходящие под обложкой этого издания исследования сосредоточены на анализе динамики и постоянной изменчивости данного образования, стремящегося к сбалансированию внутренних противоречий и управлению различиями. При таком подходе проблема «приоритетов» (кто первый?) или «влияний» (кто от кого заимствовал?) замещается изучением адаптации и рецепции, то есть выявлением витальных свойств Российской империи, ее способности воспринимать, трансформировать и использовать поступающую извне информацию[11].
Для меня заявленный подход привлекателен не только интердисциплинарностью, но и проблематизацией языка самоописания групповой солидарности (понятно, что им может быть не только вербальный, но и графический текст культуры)[12]. Оба этих свойства принципиальны для изучения визуального «народоведения». Ни этнография с ее фиксацией на процессе накопления сведений и признаков «издавна существовавшего» народа, ни традиционное искусствоведение с интересом к способности искусства фиксировать социальную реальность, ни национальная история, создающая рассказ о разворачивающейся во времени жизни народа, ни даже нарождающаяся историческая психология не могут в собственных дисциплинарных рамках реконструировать и контекстуализировать идентификационные процессы, породившие группность и обеспечившие мобилизацию Российской империи. Анализ же языков самоописания позволяет обнаружить скрытые резервы самоорганизации.
Графические образы России исследуемого времени явно образуют коммуникативную систему со сложной знаковой кодификацией, что побуждает рассматривать их в качестве языка и ограниченно применять к ним методы семиотики и лингвистики. Работоспособность данных техник продемонстрирована исследованиями периода «лингвистического поворота» и ориентальными дебатами. Их следствием стало то, что ныне аналитическая процедура для историка-русиста перестала исчерпываться восстановлением условий порождения и функционирования понятий (Begriffsgeschichte)[13]. Проводить такую реконструкцию необходимо, и это сложно делать, но сама по себе она была бы достаточной только в том случае, если бы язык лишь отражал интеллектуальные явления, фиксировал уровень их концептуализации. Однако он их еще и порождает.
Смещение исследовательского внимания с результата на способы его достижения стимулировало обсуждение технологических аспектов такой процедуры. В последние годы на встречах русистов речь часто идет об интегративных и мобилизационных механизмах империи, в том числе о способах классификации подданных и практиках их ранжирования[14]. Очевидные для участников этих встреч творческий характер понятия «народонаселение» и разнообразие применявшихся способов распознавания народов, а также зависимость современного языка описания от утвердившегося в XIX в. русского этноцентричного дискурса подтверждают произнесенный несколько лет назад Х. Хаарманом (редактором сборника, посвященного «русскости») «диагноз»: бытующие в современной науке и массовом сознании представления о русской нации (как, впрочем, и об остальных народах империи) весьма фантастичны и в значительной степени базируются на созданных в разные времена идеологемах, стереотипах, мифах и топосах[15].
Наука пока не предложила убедительной альтернативы этим формам знания. Дело в том, что применение рутинных методов анализа письменных свидетельств не дает положительного эффекта для выявления групповой солидарности в России XVIII в. Их низкая производительность порождена спецификой исследуемого культурного пространства, для которого характерны либо отсутствие, либо семантическая многозначность русскоязычных терминов и символов, выделяющих человеческие общности[16].
В Западной Европе до эпохи Просвещения термины «народ» и «нация» применялись преимущественно к неевропейцам. Они допускали описание человеческого разнообразия без использования каких-либо классификаций и схем развития. Писатели-путешественники раннего Нового времени не испытывали потребности в различении неевропейского мира, представляя его жителей как некое нераздельное «бесконечное множество» наций Африки и Америки. К XVIII в. западный концепт «нация» начал отделяться от «этничности». Он стал увязываться с культурными качествами, отсутствующими вне Европы. Тогда же идея расы дала основания для разделения людей по «природе», что низвело различия между неевропейцами до уровня тривиальности. А слово «племя» обрело коннотации априорной ущербности[17]. Однако пришедшие в Россию вместе с иностранными специалистами и переводной литературой европейские термины в XVIII в. еще не получили однозначного признания в речи отечественных элит. Слова «народ», «народность», «нация», «Россия» использовались в столь вариативных значениях, что не позволяют заподозрить наличие твердых соглашений по этому поводу. В силу этого оказываются неплодотворными розыски в письменных источниках свидетельств отрефлексированного чувства единства.
Кроме того, исследовательская ситуация для русиста осложнена слабостью в XVIII в. публицистического дискурса и фрагментарностью массовой культуры, а также тем обстоятельством, что лишь определенный сегмент населения был открыт интеллектуальному импорту идей, текстов и образа жизни, тогда как значительная часть жителей страны оставалась к ним невосприимчивой[18]. Если добавить к этому неплотность административной сети[19], недооформленность сословных групп[20], пористость границ между локальными общностями[21], неразвитость гражданских образований, то вовсе не простой оказывается задача выяснить, по какому наитию из этой, по метафорическому выражению Петра I, «рассыпной храмины»[22] выросло у современников видение империи как логичной конструкции, иерархии социальных слоев и этнических групп, накрытой «русским покрывалом».