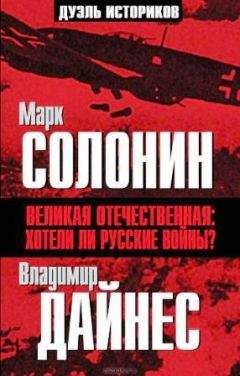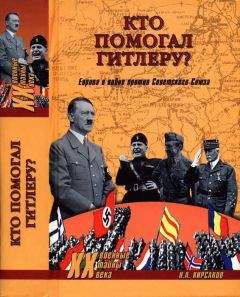Нина Молева - Москва гоголевская
Верить в себя – овладеет ли он когда-нибудь этим искусством? В той мере, чтобы упорно добиваться задуманного, но не в той, чтобы испытывать довольство собой. «Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением… Меня, доброго, простого человека, может быть, не совсем глупого, имеющего здравый смысл, называть гением! Я вас прошу, маменька, никогда не называйте меня таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь».
Казалось, такой бесспорный успех «Вечеров на хуторе близ Диканьки», смех наборщиков («Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни»), восторги Пушкина, Жуковского – и непреодолимое желание проверить свой успех в незнакомой Москве.
Аксаковы. Щепкин. Патриарх русской поэзии И. И. Дмитриев с его неразлучным ручным журавлем. Москва наполнилась множеством друзей. И здесь становится очевидным: выбор надо делать. Гоголь признается: «Я помешался на комедии». Привязанность к театру ожила в новой форме.
«Женихи», «Женитьба». Наконец, «Ревизор». Его петербургская постановка – взрыв негодования и восторгов. Мнимая снисходительность Николая I не обещает ничего доброго. Он досадует на зрителей, которые не поняли до конца его замысла, и вдвойне на себя, что не сумел внятно выразить своей идеи. Поездка в Италию нужна, чтобы справиться с самим собой, своими обидами и ошибками. Тем более незадолго до столичной премьеры он писал, закрыв за собой двери университета: «В эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный круг моих прежних сведений, но высокие исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня». Его ждала его гениальная поэма «Мертвые души».
Как труден путь к осуществлению главного в жизни желания! В ноябре 1851 года состоится чтение автором «Ревизора» для труппы Малого театра. По окончании Гоголь попросил уезжавшего в Петербург Г. П. Данилевского передать его «должок» П. А. Плетневу. И только от Плетнева Данилевский узнает, что «должок» – деньги, которые Гоголь регулярно и безымянно присылает неимущим студентам Петербургского университета. Немалые деньги. Через три месяца, пересматривая вещи покойного, хозяин последней его квартиры А. П. Толстой не найдет ни денег, ни верхнего платья. Гоголя положат в гроб в том единственном сюртуке, в котором он ходил каждый день.
Благоразумие друзей восставало: «Надо наконец устроиться. Дописать книгу. Расплатиться с долгами. Упорядочить быт». А он до конца живет под чужой крышей. Запоем работает по утрам. Украдкой выходит на Никитский бульвар, чтобы побродить по его аллеям. Отдает свободное время только тем, кто ему близок. И всегда молодым. «Нам давно следовало быть знакомыми», – обратится он к Тургеневу. Опоздав на чтение «Банкрота» Островского, до конца прослушает пьесу стоя. Написанные им строки автор до конца станет носить в ладанке как благословение.
…Благоразумие еще вступит в спор перед кончиной Гоголя. Во время последней болезни давние друзья забудут навещать – их заменят толпы студентов, тревожно ждавших известий на бульваре. После смерти под пустяковым предлогом друзья откажутся от участия в похоронах – студенты университета перенесут тело в университетскую церковь. Запруженные народом улицы и бульвары, семь верст пути гроба на плечах москвичей – Москва утверждала: справедливость Гоголя была справедливостью для каждого человека. «Нравственность, нравственность страждет – вот что главное…»Дом без крыльца
Н.В. Гоголь
Из «Литературных воспоминаний» И. С. Тургнева «Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении „Ревизора“; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери – и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он вероятно заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 1841 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е-ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно-проницательному выражению его лица.
М.С. Щепкин
Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я – рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович – на креслах, возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще, взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» – невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове… вся Москва была о нем такого мнения.
И.С. Тургенев. Рисунок Полины Виардо. 1850-е гг
Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию, что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе – а просто, жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание.
Фаянсовый чернильный прибор из дома Трощинских, родственников и соседей Гоголя на Полтавщине, одна из немногих сохранившихся вещей, которые «встречались» с писателем, был передан Мемориальным комнатам художником Э.М. Белютиным
Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово – что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о ; других, для русского слуха менее любезных особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, – исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и все это – языком образным, оригинальным – и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у «знаменитостей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей – только тогда – мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом необходимость цензуры – не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: «Si, servi siam; ma servi ognor frementi» [1] ; но самодовольное смирение и плутовство рабства… нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть «Переписки»: оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще, я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим – лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту – в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.