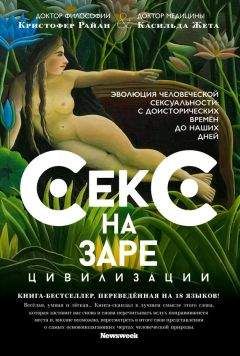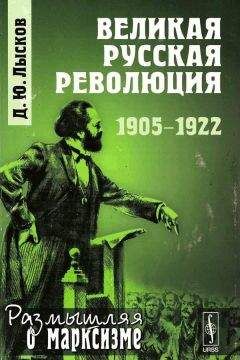Дмитрий Лысков - Великая русская революция, 1905-1922
Нужно ли говорить, что построенное на подобного рода всеобъемлющих утверждениях упрощенчество лишь еще больше уводит нас от понимания исторических процессов? Американский историк и советолог Р. Даниелс в статье «Россия на рубеже XXI века» отмечает: «Удивительные события 1991 года способствовали закреплению почти универсального стереотипа в отношении рухнувшего режима. И в России, и за границей его считают провалившимся экспериментом длиною в семьдесят четыре года… Данное суждение проистекает из буквального, упрощенного понимания коммунистической идеологии как определяющего фактора советской жизни»[8].
«…На вопрос, почему «коммунизм», или «русская революция», или «семьдесят четыре года советского эксперимента» потерпели крах, нет простого ответа. Система, рухнувшая в 1991‑м, весьма и весьма отличалась от той, которую большевики пытались установить в 1917‑м. Она прошла все стадии революционного процесса и была сформирована с одной стороны историческим наследием России, с другой — потребностями модернизации. Что менялось менее всего, так это рамки идеологической легитимизации, за которую держались последовательно сменявшие друг друга коммунистические лидеры, придавая иллюзию постоянства тому, что на деле являлось историей глубоких изменений»[9].
Что мы сегодня знаем об истории глубоких изменений, которые прошла наша страна? На бытовом, идеологическом уровне, даже в научной дискуссии мы раз за разом скатываемся к внеисторическим обобщениям. А ведь система, попавшая под уничтожающую критику, по признанию американского советолога была сформирована историческим наследием России — не считая не менее важных требований модернизации.
Р. Даниелс продолжает: «…Если иметь в виду реальные задачи, возложенные на него историей, советский «эксперимент» отнюдь не назовешь полной неудачей. Основная его цель состояла в доведении до конца процесса модернизации, прерванного революцией, а также в мобилизации национальных ресурсов ради выживания России и ее способности конкурировать в мире передовых военных технологий…»
«Сталинизм превратил крестьянское по своей природе общество в нацию, по преимуществу городскую, образованную и технологически изощренную, одним словом — современную. Советская Россия была уже не докапиталистической, как это зачастую утверждалось в теориях посткоммунистического «перехода», и не посткапиталистической, как трактовала марксистско-ленинская доктрина, она была альтернативой капитализму, параллельной формой модернизации, осуществленной совершенно иными методами»[10].
Через три революции, Мировую и Гражданскую войны, через Великую Отечественную войну наша страна прошла, выдержав вызовы истории. Которые состояли — не больше, и не меньше — в «мобилизации национальных ресурсов ради выживания России». На этом пути наша страна стала одной из двух мировых сверхдержав. Второй полюс — США — не видел войн на своей территории с середины XIX века.
Все это стало возможным благодаря созданию реальной альтернативы капитализму, параллельной форме модернизации. Этот факт признают за океаном, но от него просто отмахиваются у нас. Много ли мы вообще можем припомнить альтернативных форм, не говоря уже о столь значимо эффективной?
Нужно заметить, что происходящее в России отнюдь не уникально. Отрицание собственного опыта, истории, болезненная концентрация на недостатках, выпячивание язв и стремление к огульному покаянию за все свершенное и несовершенное — похоже, что это является определенного рода закономерностью для стран, переживших революционный слом. Известный французский историк XIX века Жюль Мишле обращался к современной ему интеллектуальной элите: «Важно выяснить, насколько верно изображена Франция в книгах французских писателей, снискавших в Европе такую популярность, пользующихся там таким авторитетом. Не обрисованы ли в них некоторые особо неприглядные стороны нашей жизни, выставляющие нас в невыгодном свете? Не нанесли ли эти произведения, описывающие лишь наши пороки и недостатки, сильнейшего урона нашей стране в глазах других народов? Талант и добросовестность авторов, всем известный либерализм их принципов придали их писаниям значительность. Эти книги были восприняты как обвинительный приговор, вынесенный Франциею самой себе…»[11]
Мишле писал: «Конечно, у нее есть недостатки, вполне объяснимые кипучей деятельностью многих сил, столкновениями противоположных интересов и идей; но под пером наших талантливых писателей эти недостатки так утрируются, что кажутся уродствами. И вот Европа смотрит на Францию, как на какого-то урода… Разве описанный в их книгах народ — не страшилище? Хватит ли армий и крепостей, чтобы обуздать его, надзирать за ним, пока не представится удобный случай раздавить его?..»
«В течение полувека все правительства твердят ему [народу], что революционная Франция, в которую он верит, чьи славные традиции хранит, была нелепостью, отрицательным историческим явлением, что все в ней было дурно. С другой стороны, Революция перечеркнула все прошлое Франции, заявила народу, что ничего в этом прошлом не заслуживает внимания. И вот былая Франция исчезла из памяти народа, а образ новой Франции очень бледен… Неужели политики хотят, чтобы народ забыл о себе самом, превратился в tabula rasa?.. Как же ему не быть слабым при таких обстоятельствах?»[12]
Слова историка, написанные более 150 лет назад, удивительно актуальны для современной России. Франция свою эпоху исторического отрицания пережила. Сегодня французы с гордостью говорят о Великой французской революции. День взятия Бастилии — национальный праздник. Каждый француз знает — Великая революция сыграла свою роль не только в жизни республики, но и явилась значимой вехой мировой истории. Статуя свободы, венчающая морские ворота США — подарок Франции независимой колонии — тому примером.
Только от нас сегодня зависит, как долго продлится период отрицания ключевого этапа российской истории, оказавшего огромное влияние не только на нашу страну, но и на весь остальной мир. Для нас предельно важно совершить этот переход — от огульного обличения к изучению и пониманию собственной истории XX века.
С водой идеологии в 1991 году мы выплеснули нечто чрезвычайно важное, настолько, что, не исключено, от этого зависит выживание нашей страны. Об этом говорят советологи за океаном, и для нас это достаточная причина, чтобы насторожиться. Возможно, главное лучше видится издалека. Возможно, это ошибочная трактовка. Но ставки слишком высоки, чтобы просто закрывать глаза на прозвучавшие предупреждения.
Глава 1. Главный вопрос революции
1. Марксизм и либерализм: революционные теории — антагонисты?
Сегодня существует много подчас диаметрально противоположных взглядов на марксизм. Для нас не принципиально «массовое» отношение к этой теории, в основе которого лежит отрицательный медийный образ «что-то слышал и осуждаю». Это следствие большой кампании по борьбе с коммунизмом. Для нашей темы важно, во-первых, что марксисткой теорией пользовались революционеры. Чтобы понять их поступки, необходимо иметь представление об их образе мысли. Впоследствии мы сами убедимся, что марксистский подход применялся к анализу событий в России всеми силами рассматриваемого периода (именно всеми, от кадетов и эсеров до большевиков). Во-вторых, применяется он и по сей день, разве что без ссылок на работы немецкого философа.
Рассматривая общественные структуры и государство, Маркс для их характеристики ввел понятие общественно-политической формации. Формация характеризуется свойственным ей уровнем производительных сил (техническим развитием), формирующим специфические производственные отношения. Совокупно они составляют экономический базис общества, а он, в свою очередь, формирует наиболее соответствующую базису систему власти, или политическую надстройку.
В предисловии к «Критике политической экономии» Маркс писал: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания»[13].
Обобщая историю цивилизации и опыт европейских революций XVII‑XVIII веков, Маркс сформулировал определенные закономерности общественного развития. Они заключались в последовательной смене формаций: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке»[14].