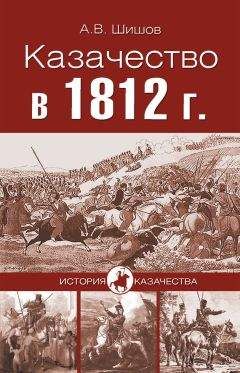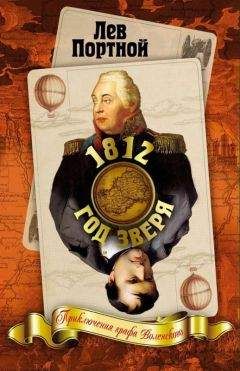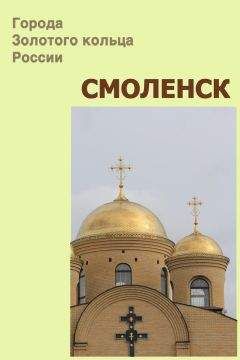Николай Коншин - Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году
XIII
Село Семипалатское окружено с трех сторон болотистым дремучим лесом, к которому прилегает роща. Лес этот простирается и к Смоленску и к Дорогобужу и издревле был обиталищем хищных зверей, почему поселяне всех окружных деревень, для взаимного сообщения между собою, проложили объездную дорогу, через поля. В Семипалатском бору и не совсем было чисто, как выражались туземцы: деревенские ребята часто слыхали, как стороной, в самой глуши, раздавались вещие "ау", на которые откликалось по лесу так страшно. Иногда в тихую лунную ночь вдруг что-то пойдет по лесу с таким треском и свистом, что сердце замрет. Старики толковали, что, по преданиям, с незапамятных времен несется дурная молва об этом лесе; что до православия еще жил в нем какой-то чернокнижник, который много делал зла целому краю; что этот чернокнижник был проклят матерью, а потому и не мог умереть. Хотя давно уже об нем не стало слышно, но сила-де нечистая не выводится.
Несмотря однако же на сие, нужды сельские поневоле заводили иногда крестьян в этот лес, но не близко к Семипалатскому; ибо между селом и лесом было непроходимое болото, заросшее кустарниками, а верстах в десяти ниже, к Дорогобужу, где и было несколько проселков, сбивчивых и едва проходимых. Говорили также, что главный проселок леса шел где-то и когда-то из окрестностей Семипалатского к самому Смоленску, и ежели бы по нем можно было ездить, то, вместо семидесяти верст, всего было бы верст сорок. Однако же этот проселок был потерян, и лишь сказание об нем существовало в народе. По направлению к Смоленску во многих местах были такие топи, что отнимали наималейшую надежду к переходу. Носились слухи, что покойник Мирославцев не умер бы так молод, как бы не проговорился раз, что хочет непременно проложить тут со временем езжалую дорогу прямо в Смоленск.
В самой глуши описываемого леса, верстах в восьми от Семипалатского, стоял двор, хорошо устроенный, обзаведенный хозяйством и, по положению своему, недоступный. Хозяин этого двора, видный, необыкновенного роста седоволосый старик, известен был крестьянам всего околотка под таинственным именем Синего человека, может быть, оттого, что всегдашняя одежда его была синий казачий кафтан. Впрочем, происхождение его не было тайною: этот Синий человек был некогда камердинером у покойного Мирославцева и скоро после смерти его поселился в бору. Крестьяне не знали за ним ничего худого, однако же, из осторожности, всячески избегали встречи с ним, и ни одна старуха не прошла мимо его, не сотворив молитвы. Синий человек не искал знакомства и без особливой нужды не приходил вовсе на село; а потому разве на ярмарке случалось его иногда увидеть. В известные праздники он являлся со всей семьей своей на господский двор, но и тут у него не было особенных приятелей: обыкновенно он приходил к госпоже, и в то время никто без призыва не мог войти в ее кабинет. Почти всегда видели его выходящего заплаканным, но этому не удивлялись, ибо слыхали о привязанности его к покойному барину.
В одну темную ночь Синий человек, оглядев по обыкновению во дворе своем и затворив ворота, сидел в чистой, большой горнице своего уединенного жилища и собирался ужинать, как вдруг три огромные его собаки, лежавшие в разных углах, вскочили и заворчали. Прислушавшись внимательно, он отличил среди лесного шума от порывов ветра как будто стук у ворот своих. Заткнув за кожаный пояс пистолет, он вышел на крыльцо и услышал явственно, что кто-то стучится.
- Кого бог несет? - вскричал он. Ветер и шум почти заглушали голос. Он подошел ближе к воротам и повторил вопрос.
- Отопри, Антон, - раздалось за воротами, - впусти Фому.
- А! Дорогой мой Фома! - воскликнул он радостно, вынимая засов из скобы. Откуда это бог тебя несет в такой час?
Ворота заскрипели; человек в черной бурке, верхом, с двумя медиоланскими собаками, въехал во двор. Хозяин и гость поцеловались и, привязав лошадь, пошли в горницу; хозяйка засуетилась с самоваром; собаки, как старые знакомые, обошлись между собою дружелюбно, и мирный, молчаливый дом пустынника оживился веселым разговором.
- Я ведь к тебе прямо из Смоленска, - начал Фома, - ты, конечно, не удивишься, что я проехал проселком, это уже не в первый раз. Помнишь, как часто, в молодости, мы с тобой тут езжали и охотились? Только ваше Семипалатское как будто отодвинулось; дорога так длинна мне показалась, хотя я скакал, где мог, во всю прыть. Барыня послала меня с письмом к Софье Николаевне. Скажи, брат Антон, лучше ли ей? Давно ли ты был в усадьбе? Барыня со слезами просила меня самому на нее взглянуть; она говорит, что оставила ее очень больной.
- Я вчера был в Семипалатском, - отвечал другой, - барышни не видал, а барыня жаловалась, что не совсем в доме хорошо. Боже мой, слышал ли ты, Фома, что старый Богуслав наделал... Да если б я сугубого греха не боялся, ножом бы готов заплатить ему! Разбойник! Ему ли так поступать в доме Мирославцева? Грянет гром небесный... да... он грянет; и в земле не обретут покоя его кости!
Слезы покатились градом по лицу Антона; седые волосы его как будто поднялись; глаза блеснули яростию:
- Проклятие! - воскликнул он так громко, что затряслись стены его дома. Ежели мое старое сердце еще проклинает его, стало быть, злодей достоин этого! - Тут, объяснив посетителю о приезде Ивана Гавриловича в Семипалатское и о разговоре его с матерью и дочерью, он продолжал: - Ступай, Фома, я тебя не держу; вези скорее письмо княгини; бери мою лошадь; мы тебя будем ждать к ужину, хоть до утра: долг прежде всего!
Через несколько минут пустынный бор огласился топотом бодрого коня, и Фома, старый, единственный друг Антона, пробрался известными ему изворотами чрез болото и лес и скоро въехал на широкий двор помещичьего дома.
В освещенной двумя лампами зале уединенного дома Мирославцевых господствовало молчание. Мать ходила задумчиво взад и вперед; в простенке между окнами стоял, сложив крестом руки, толстый пожилой человек, в очках, а у противоположной стены, подле закрытого рояля, сидела София, перелистывая какую-то книгу. Блестящая София была не та уж, что несколько дней назад. Глаза ее подернуты были какой-то зловещей томностью; строгая задумчивость окружала ее бесцветные уста; лицо ее было бледно. Легкая белая одежда свободно волновалась около стройного ее стана и густыми складками упадала к ногам. Шелковые локоны не блистали вокруг ее головы: все богатство их собрано было в пышном узле косы, единственном украшении юного чела ее. Софья не читала. Она, по-видимому, искала чего-то для поддержания мысли, пред тем сообщенной человеку, против ее стоявшему.
- Я не могу найти, - сказала она после нескольких минут молчания, оставляю вас, доктор, победителем, до времени.
В эту минуту движение, происшедшее в передней, остановило мать против дверей, из оной ведущих в залу: казалось, кто-то незнакомый говорил; дверь отворилась, и доложено о прибытии из Смоленска Фомы. Восклицание вылетело из уст Софии. Она встала. Лицо ее вспыхнуло, глаза оживились.
- Маменька, позвольте ему войти сюда: у него, верно, есть письмо от княгини... Фома! - продолжала она, обратившись к дверям. - Войди сюда. Здравствуй, добрый Фома! Что княгиня? Есть ли письмо ко мне?.. Есть ли у тебя письмо? - повторяла она, между тем как старик раскланивался низкими поклонами с матерью.
- Княгиня Александра Андреевна, - сказал он и ей наконец, - приказала мне, матушка Софья Николаевна, взглянуть на вас своими глазами; слава богу, что вижу вас.
- Да разве нет письма ко мне?
Фома замялся: ему было приказано отдать письмо к дочери через мать: княгиня не знала о состоянии здоровья первой, а потому боялась испугать ее нечаянностию.
- Довольно, Фома, - сказала Софья, приняв величественный и оскорбленный вид, - я вижу, что у тебя есть письмо; подай его. - Беспокойство, выразившееся на страдающем лице ее, заставило обоих присутствующих повторить приказание. Письмо отдано; Софья села; дрожащей рукой сорвала аплатку, - и читала.
Письмо Тоцкой выражало чувства тоскующего дружества: она умоляла Софью беречь себя; говорила о лагере; говорила о Богуславе, мало, но с чувством. В заключение объявляла, что наша армия подошла уже к Смоленску и что муж не позволил ей приезжать более в лагерь, ибо ожидают нападения с часу на час. "Я с ним простилась, - продолжала она, - милая София, ты поймешь, как мне грустно. Я плачу, много плачу; дети целуют мои глаза и велят молиться, а не плакать, но кто может повелевать сердцу!.. Ах, друг мой, в какое страшное время мы живем, нет состояния, которому можно бы позавидовать... Война, этот грозный мор, подошла уже к Смоленску: к нашему мирному, доброму Смоленску... Не сон ли это, София!"
Она просит сказать откровенно о своем здоровьи и не задерживать посланного, чтоб скорее мог ее успокоить.
Софья, по прочтении письма, удалилась в кабинет, и уже было далеко за полночь, как она позвонила и велела позвать Фому.