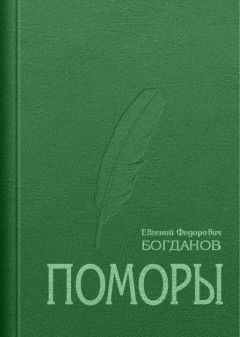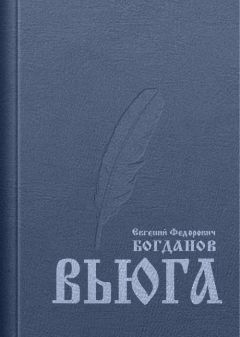Евгений Богданов - Берег розовой чайки (Поморы - 2)
Иероним Маркович Пастухов после похода в губу за селедкой да похорон Рындина стал чувствовать себя очень неважно. У него вдруг все заболело: руки, ноги, поясница, начало пошаливать и сердце. Жена поила его настоями трав, прикладывала к пояснице холщовый мешочек с песком, нагретым в печи. - Совсем, брат, ухайдакался, - говорил дед, целыми днями лежа на кровати за ситцевой занавеской в углу. - Не бережешься дак... Кто тебя в море-то посылал? Сидел бы уж дома. Меня не послушал, так теперь и стони, - незлобиво ворчала на него супруга. Не в пример мужу она не жаловалась на свои недуги. Сухая, тощая, сутулая от старости, но словно двужильная, она привычно управлялась по дому, сидела на лавке за прялкой или вязанием. Дед, однако, отлежался. Вскоре он покинул свой угол за занавеской и выбрался на улицу. Сначала посидел на лавочке у избы, потом перекочевал на рыбкооповское крыльцо, к такой же древней братии, как и он, послушать новости. А потом нежданно-негаданно наладился с двумя ведрами за водой, чему жена и удивилась и обрадовалась: таскать воду с окраины села ей порядком надоело. И если дед сходил за водой, то, значит, окреп и решил, что теперь можно наведаться и в правление колхоза: нет ли там каких-нибудь вестей. Ведь там и телефон, и почту из Мезени первым долгом доставляют туда. Придя в контору, Иероним заметил, что ряды правленцев поредели. Вместо пяти человек в бухгалтерии сидели трое: Митенев и две женщины-счетовода. Они втроем очень дружно и энергично щелкали на счетах - только треск стоял. Дед потоптался у двери, снял шапку и сел на свободный стул. - Что скажешь, Иероним Маркович? - спросил его Митенев, опустив очки со лба на нос. Он был близорук, но читал и писал без очков, что всегда удивляло Пастухова, который без очков читать не мог. - Да я так... Давненько вас не видал. Шибко дружно на счетах колотите. Сколько нынче на трудодень выйдет? Хотя бы предварительно. - О трудодне еще рано, - Митенев снова поднял на лоб очки и стал что-то заносить в книгу. Счетоводки переглянулись и захихикали: "О трудоднях, гли-ко, справляться пришел, труженик!" Дед не придал значения хихиканью: "Бабы есть бабы. Палец им с утра покажи - до вечера смеяться будут". Он поинтересовался: - Тихон Сафоныч у себя? - У себя, да занят. Просил не мешать, - не отрываясь от дела, ответил Митенев. - Вот что, Иероним Маркович. Вечером приходите с супругой на собрание. - Ладно. Я-то непременно приду. Супруга не любит собраний и всегда велит мне голосовать за двоих. О чем речь пойдет? - Об итогах летней путины. И еще один вопрос оборонного значения. Придешь - узнаешь. Дедко ушел, так и не поговорив с председателем. Впрочем, особенной нужды в таком разговоре не было. От нечего делать Иероним еще раз привернул к гостеприимному крыльцу магазина, приметив там среди "седунов" Ермолая. Тот недавно прибыл с морского берега вместе с лошадью. Иероним поздоровался и первым делом поинтересовался: - Куды мерина-то поставил? К себе али на колхозную конюшню? - На конюшню. - Так, ладно. - Иероним говорил с возчиком таким тоном, словно ему было дело до всего, в том числе и до тоньского мерина. - А сам-то дома ночуешь или у Матрены в приемышах? Ермолай был мужчина вдовый и одинокий. Досужие языки говорили, что он, несмотря на почтенный возраст, находится в довольно близких отношениях с засольщицей Матреной. Возчик поглядел на хитренько улыбающегося Иеронима косым взглядом, однако не подал вида, что такой вопрос задел его за живое. - Пошто у Матрены-то? В своей избе живу. Матрена у меня тоньска сударушка. В деревне есть другая... - Как тебя хватает на двоих-то? Обучил бы и меня этакому делу, - Иероним тихонько сел на ступенькую - Старики захохотали, и так как все были стары и много раз простужены, то почти все и закашлялись. - Тебе учиться несподручно. Пора на погосте место присматривать, отозвался Ермолай. Все замолчали, у всех грустные думы, лбы - в морщинках. Иероним перевел разговор на другое. - Сказывают, вечером собрание. И вопрос оборонный. Должно, секрет. Митенев мне шепнул. - Да какой тут секрет? Речь пойдет о том, чтобы помочь Красной Армии теплыми вещами. Зима скоро, армия-то миллионная! Всех обуть-одеть надо.
4 В небе громоздились тучи. Они шли на село с моря целыми полчищами, словно армия немцев там, на Западе. К вечеру все вокруг затянуло этими тучами с какими-то буровато-серыми размывами, будто кровь смешалась с пеплом, и при виде их делалось тревожно. Наконец пошел дождик, сначала редкий, неуверенный. Он исподтишка подкрался к деревне и, убедившись в том, что все в ней тихо и никто не может ему помешать, вдруг хлынул шумным, пляшущим ливнем. Среди ливня, среди темени, проколотой кое-где лучиками света, торопливо бежали к правленческому дому серые фигуры: у кого на голову надет капюшон плаща или штормовка, у кого холщовый мешок. До собрания еще оставалось примерно с полчаса, и колхозники заходили в клуб, в полутемный зал с низким, выбеленным известкой потолком. Здесь в углу стоял стол, а на нем ламповый батарейный приемник. Радиоузел до войны построить не успели, и теперь банк в связи с трудностями военного времени закрыл кредитование на строительство. Приходилось довольствоваться приемником. Все усаживались на скамейки и ждали, когда Августа включит радио. Она, экономя питание, делала это только в час передачи от Советского информбюро. Окна в клубе замаскированы щитами из толя на деревянных подрамниках. Лампочка из-под потолка светила тускло: движок служил колхозу уже больше десятка лет, порядком разработался, а ремонтировать его было нечем и негде. На новый по нынешним временам рассчитывать не приходилось. Из соседней комнаты, где была библиотека, вышла Августа Мальгина. На плечах у нее тяжелая материнская шаль, пуговицы жакета не застегивались. Августа была на шестом месяце беременности. Бледное лицо ее с нежной белой кожей и спокойными голубыми глазами было сосредоточенно. Августа включила приемник. Он зашипел, словно самовар, в который добавили угольев. В притихшем зальце послышались знакомые позывные Москвы. Диктор строгим и четким голосом стал сообщать очередную сводку с фронта. Слушали ее с хмурыми, сосредоточенными лицами. Известия были нерадостными, немцы оголтело рвались к Москве... Старики, женщины, дети, жмущиеся к матерям, Густя, выжидательно стоявшая в уголке, - все молчали. Открылась дверь, и кто-то сказал громко: - - Зовут на собрание! Правленческая сторожиха, она же курьер-уборщица Манефа, в верхних сенях перед лестницей предусмотрительно повесила в помощь тускловатой электрической керосиновую лампу. Соня Хват взяла Феклу под руку. - Ой какие худые вести с фронта! - сказала она. Фекла молча кивнула. Войдя в большую и холодную комнату для собраний, в обычные дни пустующую, они выбрали место на скамье в уголке, и пока колхозники собирались, Соня сказала озабоченно: - Вторую неделю нет ничего от Феди. Жив ли? - Может, некогда писать. Бои ведь, - отозвалась Фекла. - Он в полковой разведке. Там, говорят, очень опасно... - Бог милует... Панькин, решив, что пора начинать, поднялся из-за стола: - Товарищи колхозники! Разрешите огласить повестку дня: "О сборе теплой одежды для Красной Армии". А второе - "Итоги летней путины". С повесткой дня все согласились, и Панькин предоставил слово секретарю партийной организации Митеневу. Тот, как положено в таких случаях, сделал небольшой доклад. Речь свою он по бумажке произносил недолго и закончил призывом: "Все для фронта, товарищи! Дадим больше теплых вещей для наших бойцов и этим обеспечим полную победу над фашистскими извергами!" Митенев сел, Панькин спросил, нет ли желающих высказаться. Еще до собрания Митенев, чтобы "раскачать" колхозников, подготовил первого оратора Ермолая, но тот, видимо, растерялся или застеснялся, и произошла небольшая заминка. Кто-то из женщин сказал: - Чего высказываться-то? Ближе к делу! - Правильно! - поднялся Иероним Маркович Пастухов, держа под мышкой небольшой сверток. - Тихон Сафоныч, ежели одна овчинка, так ничего? Больше у меня нет. - Одна так одна, - одобрительно сказал Панькин. - Вы, Иероним Маркович, овчинку, другой овчинку или, может, и не одну - глядишь, и полушубок для бойца Красной Армии. - Ну тогда... - дедко торопливо выбрался из рядов к столу и немножко смущенный оттого, что большего дать не может, развернул сверток и, аккуратно расправив, показал всем овчинку. - Вот, новая. Сам выделывал. И еще старуха у меня там вяжет три пары носков шерстяных. Их завтра принесу, коли довяжет. И ночью поработает, керосин есть... Боле у меня, извините, ничего подходящего не нашлось, все старое, как и я сам. Ну, здесь хозяева есть покрепче меня. Не подкачают. Панькин одобрительно улыбнулся и вежливо похлопал деду. Колхозники тоже поаплодировали. В правлении стало веселее. - Спасибо, Иероним Маркович, за посильную помощь фронту. Я тоже последую вашему примеру, - Панькин вышел из-за стола, снял с гвоздика новый романовский полушубок фабричного шитья и шапку-ушанку, тоже ненадеванную. Он положил полушубок и шапку рядом с овчиной Иеронима. Кое-кто растерялся, потому что вещей с собой не принес, хотя и был готов дать их. Панькин успокоил односельчан: - Не обязательно выкладывать вещи сейчас вот, на этот стол. Вы можете принести завтра утром и сдать... Фекле Зюзиной. Поручим ей собирать вещи. Согласны? Фекла подняла было руку, но тотчас опустила ее. - Вы что, возражаете? - спросил ее Панькин. - Да нет. Я хотела сказать, что у меня нет ни овчин, ни хорошего полушубка. Но я связала шесть пар носков. Правда, на свою ногу, но она у меня не маленькая. Носки подойдут на любого мужика. Ладно ли? - Ладно, Фекла Осиповна, - отозвался председатель под одобрительный смешок собравшихся. Колхозников позабавило замечание Феклы о размере ее ноги. Давайте по порядку будем записывать. Митенев взялся за тетрадку и перо. - Фекла Осиповна, сколько пар носков? - спросил он. - Шесть пар. И шарфик еще отдам, из белой овечьей шерсти. - Шесть пар и шарфик. Кто следующий, - спросил Панькин. - Для ясности еще скажу, товарищи, что теплая одежда нужна не только бойцам на фронте, но и эвакуированным из прифронтовой полосы. Они прибывают в тыл почти совершенно раздетыми... - У меня есть две овчины, - предложила Варвара Хват. - Запишите. - А у меня служат в Красной Армии три сына, - сказал высокий седой старик Мальгин. В Унде половина села носила эту фамилию. - Я даю три овчины, Выйдет полушубок на доброго мужика! - Вот я купила новые ватные брюки своему старику, - поднялась пожилая рыбачка. - Обойдемся и старыми. Новые отдаю. Возчик Ермолай Мальгин, подготовленный Митеневым, решил все-таки высказаться. - Надежда Гитлера на молниеносную войну уже не сбылась, - начал он. Война-то оказалась затяжной. Немцы в России увязли. А раз увязли - придет им каюк. И, безусловно, фашисты потерпят полный крах! Для ускорения нашей победы я, значит, вношу для Красной Армии тельняшку, шапку, полотенце и еще посмотрю, чего можно... - Речь-то хороша, да взнос-от невелик: тельняшка да полотенце, - вставила бойкая рыбацкая женка. - Шубы-то у тя нету запасной? - Шуба у меня, к сожалению, только одна и та с изъяном - заплат много, Ермолай размахнул полы, показал две огромные заплаты. - Ладно, видим! Что с тебя боле взять... - Пишите и меня: новые чесанки1, сорок второго размера, серые. - А я могу принести пару шерстяных рукавиц да полторы овчинки. Половинку-то отрезала, не знала... Запись продолжалась. На другой день Фекла приняла по списку одежду от односельчан, с помощью Сони Хват все упаковала в мешки и при первой возможности отправила в Архангельск.