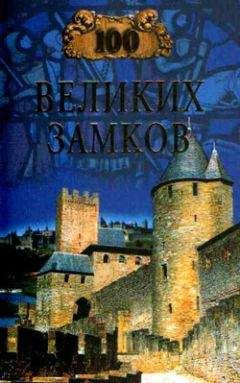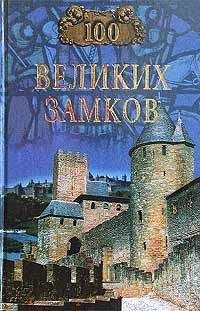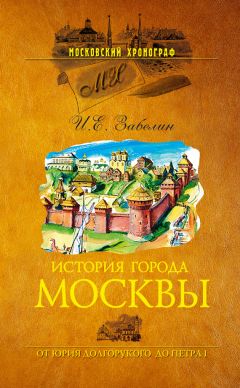Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 2
Э. Мане. Портрет Эмиля Золя. 1868.
Что ясно из отрывка? Первое. Сто лет тому назад в самой передовой в культурном отношении стране Запада антисемитизм проявил себя вполне открыто и победоносно. Защитники Дрейфуса были наказаны, изгнаны, посажены в тюрьмы или приговорены. Второе. Французское общество (правительство, парламент, армия, суд, большая часть прессы) с редким единодушием встало на сторону антисемитов. Третье. Даже церковь внутренне согласилась с мнением общества. Четвертое. Народ приступил к активному выражению своего отношения к евреям (Золя пишет: «В деревнях уже это началось»). Пятое. Капитан Дрейфус, будучи ложно обвинен в шпионаже, оправдан только через 12 лет (полностью реабилитирован и восстановлен в прежних правах, с сохранением воинского чина в 1906 г.). Шестое. Можно предположить, что были причины, которые и создали столь нетипичную для свободолюбивых французов атмосферу массового антисемитизма в стране. Об этих причинах Золя даже не упоминает (ни слова, ни полслова).
А некоторые лица, настроенных антирусски, и вовсе пытались отыскать корни антисемитизма не во Франции, а… в России: «Преследование против Дрейфуса возбуждается в медовый период франко-русского альянса. В нем высшие милитарные круги Франции получают питательную почву для своих реакционных устремлений. Ведь высшие военные и придворные сферы крепостнического, шовинистического и антисемитского Петербурга не скрывали своего скептического отношения к военной значимости Франции с ее демократическими институтами, с ее евреями, допущенными на командные должности в армии и флоте».[83] Запад частенько валит со своей больной головы на здоровую.
Иероним Босх. Несение креста. Фрагмент.
Среди «летописцев жизни» были и такие, кто ныне уже почти что напрочь забыт читающей публикой. Одним из их представителей новой волны молодых буржуазных циников стал Жюль Жанен (1804–1874), некогда очень популярный в пушкинской России… В зрелом возрасте его удостоят титула академика и не менее громкого звания – «Принц критики». В те времена журналистика и власть прессы были необычным явлением. Газетные писаки еще не считали себя «воспитателями нравов» грядущего поколения.
Нам еще предстоит воочию увидеть, что представляли собой шедшие на смену старым вождям романтизма «молодые прагматики» (в политике, науке, экономике, искусстве). В их прагматизме ощущается горький привкус цианида. Яд давно проник в молодое тело, верша разрушительную и страшную работу. Впрочем, есть еще надежда, что талант все же найдет противоядие. Поколение, чья зрелость пришлась на рубеж столетий, стало свидетелем не только смены властителей, мундиров, вкусов, но и измены мировоззрениям и идеям. Для юношей и девушек, воспитанных в духе философии Просвещения, время, когда «министр, богач, монах, завоеватель в условный срок выходят напоказ», было очень нелегким. Все навыки, идеи, привычки прошлых лет оказались в одночасье, якобы, ненужными, лишними, а порой даже вредными и опасными.
Жанен получил превосходное классическое образование. В его фразах и признаниях больше позы и игры, чем правды, хотя в эпоху «отреставрированных негодяев» устами иных циников глаголет истина. От обширного творческого наследия писателя до нас дошел «Мертвый осел» Часто юношеская проба пера остается в умах потомков. Памяти нации свойственно сохранять образы младые. Книгу эту иногда называют «визитной карточкой французского романтизма». Думается, что Пушкина и Белинского скорее привлекла в его творчестве острота социально-психологического видения общества.
Писателю было 25 лет, когда «Мертвый осел» увидел свет (1829). Несмотря на «раж правдивости», жизнь показала Жанену, что действительность ужасна. Вот, скажем, вчерашние защитники отечества, брошенные на произвол судьбы. В театрах он увидел потрясающую человеческую низость «комедиантов», что окончательно потеряли совесть. Во Дворце правосудия он наблюдал судейских, готовых за деньги оправдать любого преступника. Узрел и дам, занятых сбором пожертвований лишь ради тщеславия. Не менее тяжкое зрелище представляла собой панель со всеми фазами парижской проституции. «В этот час, в семь часов вечера, проституция царит по всему Парижу. В углу на улице бедная женщина выставляет на продажу собственную дочь, у дверей лотерейных заведений даже старые женщины торгуют «счастливым случаем». Поднимите голову: откуда льется весь этот «свет»? Он исходит от домов игры и разврата… В самом низу этой башни мужчина фабрикует фальшивые монеты; в этом темном углу женщина перерезает глотку мужу, ребенок обирает отца. Прислушайтесь: что за ужасный звук? Это тяжелое тело упало с моста в воды Сены, – о горе, быть может, этот утопленник юноша! Итак, от неосознанных чувствований, от беспричинного ужаса несчастный герой рухнул в эту ужасающую правду, которая «начала расползаться все шире, как масляное пятно».[84]
Для нового поколения типичны эклектизм, подлость, конформизм, беспринципность. Они бросили романтизм, предпочтя «школу здравого смысла» ценою подороже. Эти «обыватели с пером» обожали скандальную славу и деньги. Пошлость – их философия, цинизм – их оружие. Оценивая взгляды Жанена, Гонкуры в «Дневнике» приводят якобы сказанную им фразу: «Знаете, как мне удалось продержаться двадцать лет? Я менял свои мнения каждые две недели. Если бы я всегда утверждал одно и то же, меня знали бы наизусть, не читая». В образовательном смысле, как правило, многие из этих писак полные ничтожества. Но это-то как раз и нужно правительству, которое ждет от обслуги не знаний и истины, а покорности и угодливости… Сам Жанен говорил о себе: «Я не знаю ни истории, ни географии…» Сколько таких вот «мертвых ослов» гуляет по коридорам российской власти… Иные не лишены того, что я зову обаянием мерзавца, уставшего от буржуазной жизни, уходящего в оппозицию, доступную в условиях бешеной свободы.
Разумеется, новые поколения собственников тотчас потребовали для себя «нового искусства». Во Франции и Англии на смену ярким и реалистичным полотнам Делакруа, Жерико, Домье, Констебля пришли подражатели и копиисты типа Верне, Делароша, Шеффера и др. Эти художники откровенно и сознательно пошли в услужение капиталу и империи. Если Делакруа написал «Свободу на баррикадах», то уже эпоха Реставрации «обогатила» искусство «Цезарем» А. Ивона, «Римлянами времен упадка» Т. Кутюра, «Взятием Малахова кургана» О. Верне, «Возвращением английских солдат из Индии после подавления восстания» Г. Нила и др. В воздухе явственно запахло декадансом. И все же признаем: у этого буржуазного декаданса была, как мы вскоре убедимся, вполне солидная профессиональная и художественная основа. Тем они, возможно, и интересны.
Можно ли требовать от лавочников и спекулянтов высоких эстетических вкусов?! Если игривая музыка еще как-то доходила до их ушей, то труды писателей и художников оказались отброшены. Эту несправедливость они ощущали отчетливо. Делакруа, узнав о смерти Шопена, запишет в дневник: «Какая потеря! Сколько подлецов живет преспокойно, в то время как угасла такая великая душа!» «Нас расстреливают, но при том обшаривают наши карманы», – говорил Дега о режиме Второй империи и Третьей республики. Научные прихвостни в лице историка Гизо (ставшего вскоре министром) выбросили тогда громкий лозунг: «Обогащайтесь!» (вскоре его подхватил и сам император). Разумеется, в этих условиях в Салон пришли и новые «деятели искусств»… Муза в их понимании подобна базарной торговке. Важно научиться потакать вкусам и запросам «новых буржуа». И надо сказать, что иные из модных художников (Мейсонье, например) получали за свои картины больше, чем Тициан и Рубенс (по 200–300 тысяч франков). У подобного искусства была и философия. На гигантском панно П. Делароша «Художники всех веков» (в Школе изящных искусств) голые девицы раздают награды студентам.[85]
Что же за искусство утвердилось в буржуазной Европе? Обратим свой взор вновь к Франции, ибо она повелительница мод литературных и художественных. Эта великая обольстительница хороша даже своими буржуазными пороками. Поэтому говоря о Западе, мы вынуждены смотреть на состояние культуры через и посредством французской живописи… То, что однажды сказал Ромен Роллан в отношении европейской поэзии и литературы (в «Жане-Кристофе»), вполне применимо и к культуре в целом: «От всей этой поэзии в целом веяло благоуханьем богатой цивилизации, созревавшей в течение долгих веков, – другой такой не было нигде в Европе. Тот, кто вдохнул ее, уже не мог ее забыть. Она привлекала поэтов со всех концов земли. И они становились французскими поэтами, французскими до нетерпимости; и у французского классического искусства не было более ревностных учеников, чем эти англосаксы, эти фламандцы, эти греки».[86]