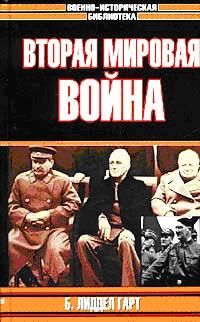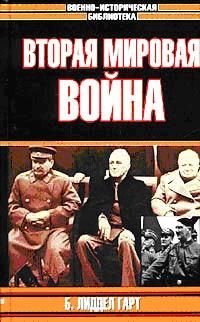Н. Пруцков - Литература конца XIX – начала XX века
Причисляя Клюева именно к такому типу народных правдоискателей, В. Г. Базанов справедливо пишет о его особенной религиозности, «по-крестьянски» сочетающей в себе «патриархальные пережитки и ненависть к официальному православию».[1050] Через всю многовековую толщу русского религиозного движения проходят имена наиболее знаменитых расколоучителей. Тяготение Клюева к духовному авторитету одного из них, к протопопу Аввакуму, несомненно. В. Г. Базанов прослеживает разделенную веками общность этих двух самобытных деятелей русской культуры, говоря, что оба они, относясь резко отрицательно к официальной церкви, вдохновенно «выступали против разрушения тех эстетических и духовных ценностей, которые были созданы в эпоху Древней Руси самим народом».[1051] Этим же определяется и некоторое сходство их поэтических систем, опирающихся на «своеобразное фольклорное переосмысление христианской символики и языка древнерусской литературы».[1052] Характерна ранняя биография Клюева. Происхождением (его мать была из раскольнической семьи) он принадлежал к людям «крепкого морального закала» (П. Сакулин). В шестнадцать лет, надев на себя вериги, он уходит «спасаться» в Соловки, затем подвизается в роли псалмопевца Давида в раскольничьем «Корабле», где сочиняет пользующиеся большим успехом у верующих духовные песни и молитвы. Позже Клюев назовет протопопа Аввакума своим «прадедом». Героический и трагический образ его займет свое место в напряженно насыщенной историческими ассоциациями клюевской лирике 1920-х гг. («Львиный хлеб», 1922). Традиции старообрядческой культуры наложили определенный отпечаток и на детские годы Есенина, воспитывавшегося в доме деда-раскольника.
Неудивительно поэтому, что все мировосприятие этих поэтов оказалось насыщенным религиозной символикой. В ореоле христианского мученичества воспринимался ими и образ России. К нему они шли от апокрифов и утопий, национальную сущность которых необычно смело для своего времени обобщил Тютчев в образе «царя небесного», исходившего, благословляя, родную землю. У Есенина ее благословляет, проходя «мимо сел и деревень», крестьянский заступник «милостник Микола», у Орешина за судьбой русского пахаря следит «с косматых облаков» Христос, а по темной крестьянской избе ходят в известный час «светлые тени» ангелов. Такие образы отсутствуют у Клычкова, у него их место занято персонажами языческой мифологии («Леший», «Лада», «Купава»). Особенно богата апокрифическими персонажами поэзия Клюева. В нее он переселил весь синклит святых и мучеников с избяных и церковных икон, присовокупив к ним еще и языческих покровителей. Не следует, однако, усматривать в этом подчеркивание религиозности поэтов. Церковные образы были призваны освещать утопический идеал России, хотя образ последней представал у них не только в мистическом освещении.
В поэзии Клюева, Есенина и других поэтов крестьянской плеяды полнокровно воспроизведены живые и красочные черты деревенского быта. Употребление таких привычных атрибутов крестьянской убогости, как «сермяга», «лыко», «лапти» и пр., приобретало в их поэзии непривычное эстетическое звучание. У Клюева «Зорька в пестрядь и лыко Рядит сучья ракит»; «Месяц засветит лучинкой, Скрипнет под лаптем снежок».[1053] Проявлением гармонической полноты деревенской жизни любуется Есенин (стихотворение «Базар»). Базар поэтизировался почти всеми русскими художниками, как тот праздничный промежуток в перерыве между тяжелыми крестьянскими работами, когда выплескивается наружу все веселое и жизнерадостное в народной жизни. Есенинское стихотворение в какой-то степени напоминает картину Б. Кустодиева «Ярмарка» (1906), на переднем плане которой плещут своей веселой, звонкой многокрасочностью рубахи мужиков, сарафаны, платки и ленты баб и девок, а взоры детей завораживает расписной мир игрушек. Беленые и крашеные стены и кровли церквей и колоколен усиливают это впечатление. А в отдалении за ними, за серыми крышами изб нахмурился и затаился лес как воплощение долгих недель и месяцев сурового мужицкого труда. Радостная образность переднего плана — это только краткий счастливый миг, и художник не жалеет на него своих ярких красок. Всем своим темпераментом и художественным строем стихотворение Есенина также стремится запечатлеть мгновенье крестьянского досуга и радости. И хотя здесь полностью отсутствует контрастный кустодиевский фон, кратковременность веселья ощутима и в стремительном ритме строк, и в торопливой смене зрительных и слуховых впечатлений. С красочным базарным ассортиментом гармонирует такая же щедрая, яркая природа. В последней строфе лирический накал достигает предела: здесь сливаются воедино и восторг перед веселящейся народной Русью, и затаенная радость счастливой любви.
Ты ли, Русь, тропой-дорогой
Разметала ал наряд?
Не суди молитвой строгой
Напоенный сердцем взгляд![1054]
Не менее знаменательно и стихотворение «Рекруты», тоже посвященное бытовому явлению: уходу в армию новобранцев. В нем поэт решительно отступает от распространенных в фольклоре и крестьянской поэзии ламентаций и «плачей». Здесь взят только один мотив — прощание крестьянских парней с «остальными» деньками их деревенской жизни. Все внимание поэта сосредоточено на утверждении связи между уходящими из деревни новобранцами и взрастившим их крестьянским краем. Их окружает навсегда входящий в их память мир родного села, с его «тропинкой кривенькой», «летним вечером голубым», «пеньками» в соседней «темной роще», зелеными пригорками и полями. Стихотворение направлено на выявление чувства родины, которое унесут с собой новобранцы и которое поможет им переносить тяжесть военной службы.
Раннему Есенину присуще гармоническое видение деревенского мира. Не случайно в воплощающих его эпитетах поэтом используется палитра чистых, веселых и каких-то звонких красок:
Ярче розовой рубахи
Зори вешние горят.
Позолоченные бляхи
С бубенцами говорят.[1055]
На эту звонкую бытовую цветопись откликается и природа: «Хвойной позолотой взвенивает лес»; «Лижут сумерки золото солнца, В дальних рощах аукает звон…».
Деревенская Русь «Радуницы» (ее первый раздел так и называется «Русь») светится радостью земледельческого труда и брызжет весельем праздничного досуга с хороводами, тальянками и звонкоголосыми припевками «девчоночек лукавых». Поэт замечает «горевые полосы», сиротливость приютившихся к вербам изб; в его стихах слышатся порой ставшие уже трюизмами восклицания «горемычной» народной музы: «Край ты мой заброшенный, Край ты мой пустырь!». Однако они не содержат социального мотива, это скорее сетования по поводу исконной крестьянской бедности, созерцание которой вызывает неизбежную грусть. Не случайно, подчеркивая это, поэт употребляет оксюморонную структуру образа: осины — тощие, но листья катятся с них, как яблоки; тополя чахнут — «звонко», и т. д.
Глубоко опоэтизирован в творчестве новокрестьянских поэтов крестьянский труд, и прежде всего его носители — простые труженики села. При этом Клюев любит подчеркнуть элементарную, бесхитростную сторону крестьянского труда. Его умиляет лаптевяз, у которого под рукой скрипит «лощеное бересто», дед, который готовит «к веселым заморозкам» свои дровни — «как Ной ковчег». Философско-поэтическую апологию труженика-деда развивает в цикле «Кольцо Лады» Клычков. Здесь развертывается картина созидательного единства человеческих и природных сил: природа представлена таинственной, животворящей сущностью, а человеческая деятельность — ясно очерченным календарным кругом земледельческих забот и дел.
Идеализация сельской жизни новокрестьянскими поэтами заключалась в том, что каждый из них выступал в своем творчестве как дитя народа и видел в ней то, что привычно было видеть самому крестьянину. Им было присуще стремление изображать не столько саму историческую действительность, сколько народный идеал гармонической и счастливой жизни. В этом проявлялся особый романтизм их творчества.
Наиболее законченным романтиком на фольклорной основе следует признать А. Ширяевца. Его Русь — это Русь, уже запечатленная в народной песне. Песенны и его герои: отчаянные девушки, бурлаки, разбойники, с сильным характером запорожцы, Стенька Разин со своей голытьбой. Подстать им и пейзаж, такой же буйный, влекущий вдаль, к другой жизни: это высокие кручи, речные дали, волны, темные ночи и грозы. Ни у кого из новокрестьянских поэтов пейзаж не был наделен историческими чертами так, как у Ширяевца. Его закат сначала напоминает своей красочной пестротой Запорожскую Сечь, а затем гонца, под покровом ночи проникающего в сказочно богатый Царьград («Закат»). Волга неистовством своих волн хочет сказать о потопленных в ней сокровищах, выплеснуть их на берег («Буря»). Многоцветье и узористость представлены предметами прошлого (оружие, кубки, ковры, шатры, одежда). Узорен и разработанный в основном на богатстве плясовых мотивов ритм его «запевок».