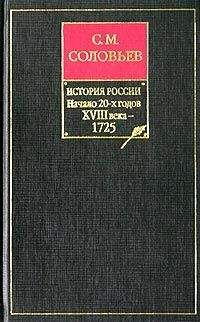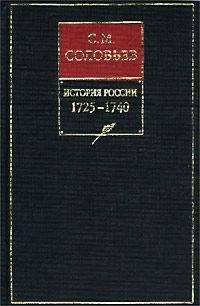Сергей Соловьев - История России с древнейших времен. Книга X. 1725—1740
Эта многоглаголивая записка Головкина, разумеется, нисколько не решала дела относительно Оренбурга, и мы видели, что кабинет-министры согласились с мнением Татищева, но Бирону не было дела до Оренбурга; для него важен был первый вид записки, и Татищев был предан суду. Для избежания перерывов мы не будем здесь говорить о ходе этого суда; заметим только, что предан был суду русский человек, бывший по смерти Феофана Прокоповича главным представителем новой России, новорожденной русской науки, русский человек, которого усердие и услуги императрице и ее власти были бесспорны; бесспорен был его горячий патриотизм — и его опала могла быть приписана только ненависти немцев к русской знаменитости или выказавшейся в чем-нибудь вражде русского патриота к ненавистному владычеству иноземцев.
Подвергся опале такой знаменитый воспитанник Петра Великого, как Татищев, но давно уже содержался под крепким арестом другой русский человек, неразлучный с преобразователем, его перо, — знаменитый Алексей Васильевич Макаров. Человек незнатного происхождения, Макаров, как близкий человек к Петру и Екатерине, встречал от всей знати самые льстивые, самые униженные заискивания, потому что мог в удобное время представить чью-нибудь просьбу государю или государыне. Легко понять, что Макарову менее всего могли простить за это, когда он перестал быть надобным человеком. Анна велела отобрать у Макарова письма, писанные ею в то время, когда ее звали просто Ивановною; Макарова затянули в дела по казенным злоупотреблениям, по недостатку отчетности, по каким-то злоумышлениям. Доказательств виновности не было, а между тем дело тянулось, и старика держали под арестом. В августе 1737 года он писал императрице из Москвы: «Содержусь я, бедный, с женою и детьми под крепким арестом два года и девять месяцев, и в запечатанных пожитках платье и белье и прочие тленные вещи от долговременного лежания без просушки и от копоти после бывшего пожара без разбора тратятся (в том числе заготовленное к замужеству большой моей дочери материнское первой моей жены и мое); также, видя меня, в долговременном аресте содержащегося, деревнишки мои посторонние нападками разоряют; деньги, отданные в долги, на должниках пропадают, а взыскивать на них и по деревенским обидам оправдаться нечем, ибо все крепости с другими письмами забраны, что видя, жена моя и дети многопродолжительное время без отрады весьма сокрушились, а, на их горестные слезы смотря, я, нижайший раб, от таких тяжких печалей пришел в крайнюю болезнь и слабость». Императрица вследствие этой просьбы отправила указ в Москву графу Салтыкову: «Понеже дело Алексея Макарова по указу нашему действительно рассматривается и к окончанию привелено быть имеет, того ради по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено было, только б впрочем по компаниям никуда не ездить, толь меньше из Москвы съезжать дерзнул, и в том его обязать надлежащим реверсом, также и к запечатанным пожиткам его допустить и их ему в диспозицию отдать можно, однако же взяв от него по обстоятельному всех тех вещей описанию крепкий же реверс, что из оных без позволения ничего не продать или иным каким образом на сторону не отдать и не растратить, а крепости его деревень из писем его приискать и к вам отправить велено».
Был в приближении у Петра Великого, который считал его полезным, необходимым человеком, а теперь не только не в приближении, но под арестом. Какая вина? Никакой вины нет; одна вина — русский, а теперь в приближении одни иноземцы. «Макаров — человек умный и милостивый и всем был приступен, когда был в силе, а ныне не так; мы надеялись было, что он останется в прежней силе при дворе государыни, а вышло не так, для того что нынче при доме ее величества больше все иноземцы».
Люди высших чинов говорили: «Ныне силу великую имеют обер-камергер (Бирон) и фельдмаршал Миних, которые что хотят, то. и делают и всех нас губят; все от них пропали, и никто не смеет с ними говорить. Однако ж бог им заплатит, и сами того же будут ждать». Люди средних чинов говорили: «Бирон взял силу, и государыня без него ничего не сделает. Всем ныне овладели иноземцы. Лещинский из Данцига уехал миллионах на двух, не даром его граф Миних упустил; это все в его воле было. Граф Ягужинский обо всем писал к государыне, а когда граф Миних приехал в Петербург и повидался с Бироном, то и нет ничего, и все пропало: знать, что поделился с ним. Вот какие фигуры делаются у нас! Государыня ничего без Бирона не сделает — все делает Бирон. Нет у нас никакого доброго порядку. Овладали все у нас иноземцы. Бирон всем овладал». В монастырях говорили: «Как не боготворят чрево, когда, тирански собирая с бедного подданства слезные и кровавые подати, употребляют на объядения и пьянства, и как сатане жертвы не приносят, когда слезные и кровавые сборы употребляют на потехи? А на все это государыню приводят иноземцы, понеже у них крестьян нет и жалеть им некого, хоть все пропади, да хотя и есть у них, да не у многих, а хотя б и у всех были, так они брегут ли о наших русских крестьянах? Чай, хуже собак почитают. Пропащее наше государство!»
Разумеется, люди, платившие слезные и кровавые подати, не молчали: они приписывали свои беды женскому правлению: «Где ей столько знать, как мужской пол? Будет веровать боярам; бабьи городы никогда не стоят, бабьи сени высоко не стоят. Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет. При первом императоре нам житье было добро, а ныне нам стало что год, то хуже; какое ныне житье за бабою?» Крестьянин винился, что говорил дурные слова про Анну от горести, что за неплатеж подушных денег бит был на правеже. Раскольник пророчествовал, что в 1733 году на Благовещеньев день будет страх велик и гнев божий и сама Анна будет взята на суд в Москву; она из Москвы поехала, как бы ей от того отбыть.
Кто же может избавить от женского незаконного и несчастного правления? Разумеется, царь. Уже в 1730 году слышался говор, что Петр II отравлен Долгоруким и осьмью другими боярами, но есть царевич, живет в горах. В 1734 году в тамбовских местах появились два самозванца — Тимофей Труженик, назвавшийся царевичем Алексеем Петровичем, и Стародубцев, назвавшийся царевичем Петром Петровичем; оба были схвачены и казнены.
В январе 1738 года в селе Ярославце Киевского полка остановились работники, шедшие за Десну для рубки леса. Один из них позвал к себе священника и начал ему говорить: «Я царь Алексей Петрович и хожу многие годы в нищенстве; поди объяви это в церкви пред всем народом; хотя мне смерть или живот будет, только б всем явно было, что я — царь Алексей Петрович подлинно, а как сие в дело пойдет и господь подаст мне счастие, я тебя тогда не оставлю; встреть меня в церкви с крестом и хоругвями, понеже пишет обо мне, чтоб я явился в Москве с болгары, однако все равно, что вместо болгар с малороссийским народом в Москве явлюсь, а если не сделаешь по-моему, то отрублю тебе голову». Священник отвечал, что во всем его слушать готов. На другой день самозванец позвал к себе солдат, стоявших в Ярославце на почте, и говорил им: «Я царь Алексей Петрович и ходил по разным местам, а ныне прямо о себе объявлю, пожалуйте послужите мне верою и правдою, как служили отцу моему, а я вас за это не оставлю». Солдаты пали на землю и со слезами говорили: «Хотя до больших наших бояр дойдет и хотя донесется и до самой государыни, мы готовы за тебя стоять». «Вставайте, — сказал им на это самозванец, — я вашу нужду знаю, будет вскоре радость: с турками заключу мир вечный, а вас в мае месяце все полки и козаков пошлю в Польшу и велю все земли огнем жечь и мечом рубить». Между тем местное начальство узнало о необыкновенном событии, и сотник прислал козаков схватить самозванца, но солдаты, примкнув штыки к ружьям, взять его не дали и повели в церковь, около которой собралась огромная толпа народа; священник в ризах с крестом на блюде вышел на паперть, с ним несли хоругви; самозванец взял крест с блюда, приложился и вошел с ним в церковь, где были зажжены свечи и отворены царские двери; самозванец царскими дверями вошел в алтарь, поцеловал на престоле евангелие и стал в царских дверях с крестом в руках; священник начал молебен; на ектениях говорил: помолимся о благоверном нашем государе царе Алексее Петровиче и о государыне императрице Анне Иоанновне, и о государыне цесаревне Елисавете Петровне, и о государыне принцессе Анне; весь народ подходил к самозванцу, прикладывались ко кресту и целовали у него руку; потом самозванец положил крест, взял евангелие, и народ точно так же подходил к евангелию. По окончании молебна священник начал читать акафист Николаю Чудотворцу, но в это самое время вбегает в церковь сотник Климович со множеством козаков, схватывает самозванца за кафтан, вытаскивает из алтаря и из церкви, причем бьет палкою, потом отводит к себе на квартиру, кладет на ноги колодки, а на другой день отсылает в канцелярию Переяславского полка. В Тайной канцелярии самозванец объявил, что он польский шляхтич из города Поддубны Иван Петров Миницкий; лет 20 тому назад он вышел в Россию, приставши к одному гренадеру Кропотова полка; потом бродил по монастырям, где его постричь не могли вследствие строгих указов, ограничивших пострижение, но употребляли при управлении вотчинами; в последнее же время жил в работниках. Побуждением к самозванству выставил видение: явился ему Христос и сказал: поди, явись мирови и объяви о себе, что ты царь Алексей Петрович, ты на это родился, и искорени Польшу, чтоб пришли в соединение веры. Видение повторилось; он рассказал об нем монаху Иоакинфу Максимовичу, и тот отвечал ему: «Не наше это чернеческое дело, явися с тем мирови». Максимович, призванный к допросу, объявил, что Миницкий, находясь в услужении в Киево-Печерском монастыре в разных должностях, бывал в исступлении ума и ничего не делал; когда он, Максимович, однажды спросил его, зачем он не работает, то Иван отвечал: «Что мне работать! Я человек не простой, явился мне Михаил-архангел».