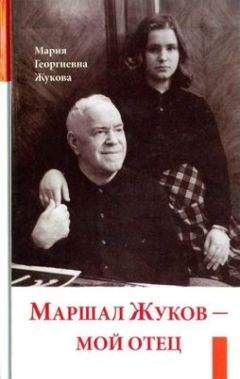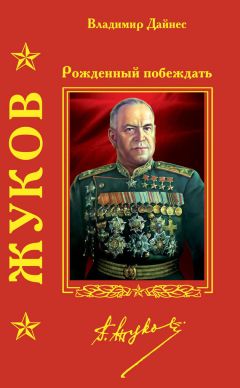Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга третья
...Советский народ дышит чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой цели — коммунизма. Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок героев А. Платонова...
(Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 467—474)Все это — такая чудовищная ложь, до такой степени не имеющая ничего общего с чистым, благородным, целомудренным тоном платоновского рассказа, а главное, за этим разбойничьим посвистом ощущается такое уверенное сознание вседозволенности, полной своей безнаказанности, что уже никаких не остается сомнений: да, было, наверняка было указание, предписывающее, как и в случае с Зощенко, расклевать Платонова, чтобы мокрого места от него не осталось.
Хотя... Нет... Кое-какой повод для сомнений все-таки остается. Все-таки я бы не стал с полной уверенностью утверждать, что Ермилов так-таки уж и не мог бы сочинить и напечатать свою статью и по собственной инициативе.
Это — крошечное, совсем крошечное — мое сомнение основано не на том, что никакого письменного указания на сей счет — не только от Сталина, но и от Жданова или Маленкова — отыскать не удалось. (Оно еще может отыскаться; да и вполне оно могло быть не письменным, а устным, — это указание.)
Гораздо более серьезным основанием для признания такой возможности может служить хорошо известная склонность Владимира Владимировича Ермилова именно вот к таким инициативам. Эту свою склонность на протяжении всей своей — довольно долгой — жизни в литературе он обнаруживал и проявлял неоднократно.
► ...В 1948 году я проводил лето со своей семьей в деревне Вертушино, рядом с литфондовским санаторием имени Серафимовича, известным под названием Малеевки. В Малеевке в то лето отдыхала Ольга Владимировна Маяковская, которой я до той поры никогда не видел. Узнав, что я живу неподалеку, она пожелала со мной познакомиться и пришла к нам с визитом. Это была крупная женщина лет пятидесяти, очень похожая на брата не только лицом, но и манерой говорить. Уже тогда на ней заметны были следы тяжелого заболевания сердца, которое через несколько лет привело ее к смерти, — она страдала одышкой, на лице ее была отечность. И мне и жене она была очень мила, и после первого визита она, гуляя, стала заходить к нам каждый день.
И вдруг ее посещения прекратились. Она не появлялась у нас больше недели. Мы с женой забеспокоились, полагая, что она заболела. Мы навели справки через знакомых отдыхающих и выяснили, что она безвыходно сидит в своей комнате и не появляется даже в столовой.
Однако скоро мы узнали, что она здорова. Как передала она нам через общих знакомых, дело объяснялось тем, что в Малеевку приехал В.В. Ермилов. Не желая с ним встречаться, она десять дней не выходила из своей комнаты. Потом, не надеясь его переждать, уехала.
Она не скрывала, что считала В.В. Ермилова виновным в смерти своего брата.
(Николай Чуковский. Литературные воспоминания.)Это, конечно, полная ерунда. Смешно думать, что Маяковский мог покончить с собой из-за такого ничтожества, как Ермилов. Но, что правда — то правда: в своем предсмертном письме он Ермилова упомянул. Одной строчкой:
► Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться.
Лозунг, о котором там шла речь (один из сочиненных им к спектаклю «Баня» и развешанных на сцене и в зрительном зале), был такой:
Сразу
не выпарить
бюрократов рой.
Не хватит
ни бань
и ни мыла вам.
А еще бюрократам
помогает перо
критиков —
вроде Ермилова...
Поводом для появления этого лозунга была статья Ермилова в «Правде» (потом она была перепечатана еще и в «Вечерке»), в которой тот в свойственной ему манере громил эту самую «Баню».
Ермилов в то время был одним из руководителей РАППа, и по его требованию этот лозунг был снят.
Не могу тут не вспомнить еще одну ермиловскую «инициативу».
Она — из другой, более поздней эпохи. Многое к тому времени в нашей жизни уже изменилось. Но Ермилов, как пелось в популярной тогдашней песне, каким был, таким остался.
А история была такая.
Заключая шестую книгу своих мемуаров «Люди, годы, жизнь», Илья Эренбург признался, что никогда не любил Сталина, никогда не верил, что Бухарин, Мейерхольд, Бабель — предатели.
Зная и понимая многое, он тем не менее молчал. Почему? Этот вопрос требовал ответа, и Эренбург в меру сил и тогдашних цензурных условий попытался на него ответить:
► Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах. Да о чем тут говорить: пресечь преступления не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные.
Эта робкая попытка объясниться у Ермилова вызвала бурю гражданского негодования. Он разразился статьей, смысл которой сводился к злорадным риторическим вопросам:
— А-а, вы, значит, понимали, что происходит? Так какое же право вы имели молчать! Мы-то о сталинских преступлениях знать не знали и ведать не ведали! Мы любили Сталина, верили ему! Мы молчали, потому что ничего не понимали. Да, мы были слепыми, наивными. Но мы были искренни. А вы, стало быть, всю жизнь лицемерили? Кривили душой?!
Особая пикантность ситуации состояла в том, что цену Ермилову все отлично знали. Поэтому вскоре после появления его статьи родилась и повсеместно повторялась эпиграмма:
Один — молчал.
Другой — стучал.
При всем своем лаконизме эпиграмма эта исчерпывающе выразила самую суть коллизии. Она, что называется, закрыла тему.
Эти — и многие другие — ермиловские «инициативы» нашли свое отражение даже в КЛЭ (Краткой литературной энциклопедии, выходившей у нас в 60-е годы).
Авторы и редакторы этой энциклопедии любили пошутить. Мишенью этих шуток были недавно еще неприкасаемые столпы и ревнители официальной идеологии. А поскольку времена были уже сравнительно либеральные, некоторые из этих шуток не только вылетали за пределы редакционных стен, но даже и выплескивались на страницы самого издания. Так, например, под статьей о широко известном в литературных кругах гэпэушном провокаторе Эльсберге красовалась подпись: «Г.П. Уткин», прозрачно намекавшая на кровную связь героя статьи с нашими славными органами.
Вершиной этих изящных стилистических игр сотрудников КЛЭ явилась сочиненная кем-то из них статья о Ермилове. Она вся — целиком! — состояла только из перечня названий трудов этого критика и литературоведа, написанных в разное время.
Заслуга автора этой замечательной статьи тут была не особенно велика: она целиком исчерпывалась изобретением самого приема. Что же касается наполнения этой схемы комическим содержанием, то это уже была исключительная заслуга самого Ермилова. Потому что никто из славной когорты наших литературных бойцов не колебался вместе с линией партии так ретиво, так упоенно, так суетливо, забегая далеко вперед и постоянно выставляя себя более роялистом, чем сам король, как делал это он — Владимир Владимирович Ермилов.
Недаром про него сочинили такой анекдот (а может, это был даже и не анекдот, а подлинный факт). На калитке ермиловской дачи в Переделкине красовалось обычное среди тамошних дачевладельцев предостережение: «Осторожно! Злая собака!» Так вот, к ермиловской этой вывеске кто-то будто бы приписал: «И беспринципная».
Благодаря совершенно исключительной беспринципности Владимира Владимировича, простой перечень названий его трудов, сопровождаемый скупым фактологическим комментарием, превратился в подлинный сатирический шедевр.
До публикации этой статьи в соответствующем томе дело, увы, не дошло. Сатирическая направленность скупого изложения всех зигзагов творческого пути Владимира Владимировича так крепко била в нос, что бдительное начальство, разглядев подвох, успело предотвратить скандал.
Скандал тем не менее произошел.
Но это был скандал уже совсем другого рода, хотя в основе его лежали те самые черты нравственного облика В.В. Ермилова, которые нашли отражение в той, так и не попавшей в энциклопедию статье.
Когда Владимир Владимирович завершил свой земной путь, гроб с телом усопшего бойца был установлен, как это полагалось ему по чину, в Малом зале ЦДЛ.
В этом зале провожали в последний путь самых разных литераторов. Нередко зал в таком случае бывал переполнен до отказа, и толпа провожающих, не поместившихся в зале, заполняла весь вестибюль писательского клуба. А иногда пришедших отдать последнюю дань усопшему бывало совсем мало: всего-навсего пятнадцать-двадцать человек, сиротливо теснившихся у гроба. Но за многие годы я знаю только один — единственный! — случай, когда проводить «дорогого покойника» не пришел никто.