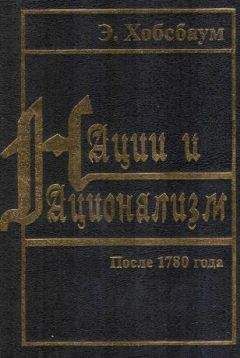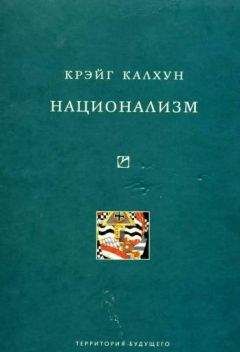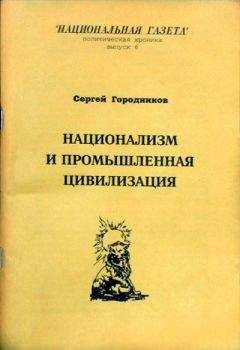Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
«Если бы он был суров, как Катков, он был бы побежден (не читают).
...Если бы он был односторонен и однотонен, как Аксаков, – опять был бы побежден (читают только “свои”)» (Розанов, 2006: 285).
Это верно в том смысле, что в новую эпоху стала невозможна прежняя публицистика – и попытки Шарапова повторять жесты Каткова в новых условиях производили впечатление фарса (см.: Розанов, 2006: 325), в том числе и из-за несовместимости с прочим, повседневным его газетным поведением: отдельный жест можно повторить, но невозможно повторить фигуру, которой этот жест принадлежит.
Большая публицистика вырастала из особых условий, когда дворянин «непоротого поколения», со своим самосознанием, совсем «не русским», ощущая себя ровней царю, которому повинуется как царю, но как дворянин такой же (как в известном письме Александру II Юрия Федоровича Самарина по поводу «Окраин
России»), – завел газету, обращаясь к таким же, как и он. Продолжение московских салонов: разговор со своими, для своих. На излете дворянской культуры – а дальше пришел интеллигент, которому с газеты «кормиться надо». Тем тоже, конечно, – но вот самоощущение другое: как с имения по сравнению с лавкой – и с имения на пропитание доход получали, но при этом к источнику дохода имение не сводилось – с барскими причудами, вроде парка, по французской или английской моде разбитого, или библиотеки, которой университетские собрания позавидовали бы.
Из этого положения вытекала особая весомость публицистического слова – оно произносилось равным к равным, было погружено в контекст, принципиально отличный от последующей политической журналистики, поскольку обращалось не столько к «читателю, политикой интересующемуся», сколько к самим политикам, читалось в контексте частной переписки, зачастую будучи ответом или откликом на подобные же письма или разговоры. От этого и влияние таких изданий, как «Московские ведомости», «День», «Москва», а чуть позже – «Гражданин» или «Русь», несопоставимое с их тиражами, поскольку их аудитория оказывалась той самой, которая и принимала решения, и, в свою очередь, эта же аудитория являлась нередко и авторами статей. Ситуация, напоминающая французскую литературу «классического века», где автор обращается к читателю, который сам является автором, или во всяком случае потенциальным автором, аналогичного текста [25] .
Мы обратимся лишь к одному сюжету, относящемуся к 1861–1862 годам, а именно к содержанию цикла статей И. С. Аксакова об обществе, народе и государстве, рассматривая его в контексте как славянофильской мысли, так и ее восприятия извне. Славянофильство, оформившееся как направление русской общественной мысли на рубеже 1830—1840-х годов, и современникам, включая глубоко вовлеченных наблюдателей, и нередко последующим исследователям представлялось завершившим свое развитие к 1856–1860 годам, высказавшись вполне объемно и отчетливо в собственном журнале, «Русской беседе», издававшейся в 1856–1860 годах и закончившись со смертью основных деятелей: в 1856 году умирают П. В. и И. В. Киреевские, в 1858-м – С. Т. Аксаков, в 1860-м – А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. Сам журнал – единственный долговременный и масштабный коллективный славянофильский проект – завершается некрологами Хомякову и Константину Аксакову, становясь их мемориальным памятником. На взгляд современников, последующее славянофильство – деятельность И. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, кн. В. А. Черкасского – представляет собой своеобразный эпилог, сохранение памяти направления, но не более того. О творческом развитии (или, на иной взгляд, об отходе от традиции) славянофильства заговорят уже в конце 1860-х в связи с выступлениями новых лиц, относящих себя к славянофильству, – Н. Н. Страхова и Н. Я. Данилевского, а затем, с 1880-х, – В. С. Соловьева и К. Н. Леонтьева [26] . Что же касается представителей первоначального славянофильства, то наиболее заметное в русской публицистике лицо, принадлежащее к данному лагерю, И. С. Аксаков, воспринимается как хранитель традиций, носитель преданий своего круга, но не более того. К. Н. Леонтьев в статье «Катков и его враги на празднике Пушкина» резко, но ясно сформулировал этот распространенный взгляд [27] :
...«Ив<ан> Серг<еевич> Аксаков, ныне живущий и столь много послуживший необходимому делу политического освобождения славян, во дни высокого подъема нашего духа (десять лет тому назад), по культурному вопросу собственно не захотел, видимо, в литературной своей деятельности ни на шаг отклониться от завещанных его предшественниками общих идей; он приложил очень много своего труда к развитию подробностей прежнего учения, но едва ли прибавил что-либо свое к основам его. <…>
В прежнее <…> учение Славянофильства он не позволил себе внести ни малейшей ереси. Он – даровитый, верный и непреклонный хранитель завещанного ему сокровища; но само сокровище это, но самый клад этот отыскан не им, и он пускает его в оборот теперь почти без процентов. Вот уже более четверти века он не дает забыть русским людям это симпатичное учение. Заслуга эта, конечно, очень велика; она даже весьма индивидуальна, своеобразна по отношению к другим его современникам, но по отношению ко всей группе Славянофилов 40-х годов она недостаточно индивидуальна. Когда люди будущего нашего оглянутся назад, когда это будущее станет настоящим, они увидят в истории второй половины XIX века собор, так сказать, этих замечательных и безукоризненных русских людей и почтят их всех вместе почтением благодарной любви, и, конечно, тому, кто дольше всех и при новьх условиях жизни оставался верен старому учению, выпадет на долю немалая слава» (Леонтьев, 2006: 202–203) [28] .
Подобный взгляд сформировался и утвердился по большей части благодаря целенаправленным усилиям самого И. С. Аксакова, мыслившего себя как «хранителя» наследия своей семьи и своих друзей. Едва вернувшись в Россию из второго заграничного путешествия, привезя на родину гроб с телом брата, умершего в декабре 1860 года на ионическом острове Занте, он пишет Ю. Ф. Самарину (от 12.I.1861):
...«Мне нужно с тобой видеться и поговорить, но не о себе, и не об эмансипации, а о тех обязанностях, которые наложила на нас связь с умершими, о наследстве, ими оставленном, о том, разойтись ли нам, или теснее соединиться. создать ли новый орган литературный, или отказаться от деятельности литературной» (цит. по: Цимбаев, 1978:69).
Н. И. Цимбаев до некоторой степени противопоставляет данный текст письму И. С. Аксакова, обращенному к А. И. Кошелеву сразу же по получении известия о смерти А. С. Хомякова (от 07.X.1860), в котором Аксаков утверждает:
...«Теперь для нас наступает пора доживанья, не положительной деятельности, а воспоминаний, доделываний. История нашего славянофильства, как круга, как деятеля общественного, замкнулась» (цит. по: Цимбаев, 1978: 69).
Однако подобные же суждения, подобное отношение к себе и к своему и славянофильства месту в мире встречаются у Аксакова регулярно – они не выражение настроения минуты, но целостная позиция «непреклонного хранителя завещанного ему сокровища», по выражению К. Н. Леонтьева, лишь наиболее сильно выражающаяся в моменты смерти кого-либо из близких людей, едино– или сродномышленников. Так, после смерти Ю. Ф. Самарина Аксаков писал кн. Е. А. Черкасской (от 01.VIII.1876):
...«Я теперь обратился в какого-то кладбищенского сторожа или надсмотрщика. Мои столы и шкафы – это могилы, в которых я постоянно роюсь, и когда уйдешь в эту работу, то грань между живым и отжившим совершенно теряется. Надобно бы исключительно отдаться теперь работе воспоминаний – все собрать, издать, записать, восстановить образы лица и всего прошлого» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. хр. 66, л. 16об).
И это не только настроение – но и позиция, находившая свое отчетливое выражение и в содержании изданий И. С. Аксакова, и в его публицистике. Так, первые номера газеты «День», к изданию которой И. С. Аксаков приступил осенью 1861 года, открываются посмертными публикациями А. С. Хомякова и Константина Аксакова [29] , а передовицы издателя-редактора насыщенны цитатами из тех же авторов и еще чаще содержат упоминания о них. Аксаков стремится говорить не только от своего имени, но ставит себя в позицию выражающего славянофильство per se – и во многом достигает своей цели, в результате чего, с одной стороны, его суждения и взгляды принимаются за выражение «классического» славянофильства А. С. Хомякова, И. В. Киреевского и К. С. Аксакова, а с другой – все более устойчивыми оказываются оценки, подобные процитированной ранее леонтьевской, когда суждениям Аксакова отказывают в оригинальности и видят в них простое воспроизведение старых мнений в изменившихся условиях, нежелание считаться с ходом времени.