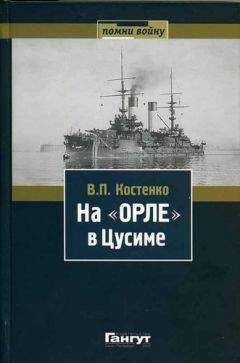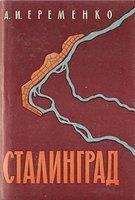Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике
Теперь становится понятно, что подход, который тот же Дионисий называет «символическим» (например, De coelesti hier. II, XV), не имеет ничего общего с тем озарением, экстазом, внезапным, молниеносным усмотрением сути, которое любая современная теория символизма считает характерной особенностью символа. Средневековый символ — это способ приблизиться к божественному, но не богоявление и не откровение истины, которую можно было бы выразить только в мифе, а не в рациональном рассуждении. Средневековый символ — это, напротив, предварение рационального рассуждения; его задача состоит в том (я говорю о символическом рассуждении), чтобы в тот самый момент, когда он кажется полезным как наставление и предварение, сделать очевидной свою собственную несостоятельность, свое предназначение (я бы сказал, почти гегелевское), воплотить в себе истину только в свете последующего рационального рассуждения. Неслучайно поэтому, что в зрелой схоластике Аквината символический подход к божественным атрибутам превращается в рассуждение по аналогии, которое уже не носит символического характера, но предполагает восхождение от следствий к причинам, осуществляемое путем суждений о пропорциях, а не внезапным усмотрением морфологического или функционального сходства. Впоследствии этот уже зрелый механизм рассуждения по аналогии как адекватного с эвристической точки зрения найдет свое блестящее теоретическое обоснование у Канта в короткой и яркой главе из его третьей «Критики», главе, посвященной символообразующим интуициям.[14]
Метафизический символизм своими корнями уходит в античность; Средневековье учитывало точку зрения Макробия, утверждавшего, что вещи, подобно зеркалам, своей красотой отражают неповторимый лик Божества (Somnium Scipionis I, 14). Понятно, что подобное учение должно было иметь успех в неоплатонических кругах. Вслед за Псевдо-Дионисием наиболее интересный вариант средневекового метафизического символизма разработал Иоанн Скот Эриугена (ср.: Del Pra 1941; De Bruyne 1946, II; Assunto 1961, p. 73–82; Gregory 1963). Для него мир предстает как величественное проявление Бога, осуществляемое через изначальные и вечные причины, которые, в свою очередь, выявляют себя благодаря различным видам чувственно воспринимаемой красоты.
«Nihil enim visibilium rerum corporaliunque est, ut arbitror, quod non incorporale quid et intelligibile significet».
«Я полагаю, что нет ни одной зримой и телесной вещи, которая не означала бы нечто нетелесное и умопостигаемое».
(De divisione naturae V, 3, PL 122, col. 865–866).Бог чудесным и невыразимым образом создает каждое творение, являя в нем самого себя, делая зримым и познаваемым то, что пребывает в нем сокрытым и непостижимым. Вечные первообразы, неизменные причины всего сущего, оживленные дуновением Любви и предстающие как творение Слова, творчески простираются во тьму первородного хаоса.
Итак, достаточно обратить свой взор на видимую красоту мира, чтобы узреть безмерную гармонию богоявления, которая позволяет нам подняться к изначальным причинам и божественным Лицам. Это раскрытие вечного в мире вещей позволяет нам усматривать в каждой из них метафору, переходя от метафизического символизма к космическому аллегоризму, и Эриугена предусматривает такую возможность. Однако суть его эстетики заключается в возможности читать природу не каким-то фантастическим образом, а философски, усматривая в каждой онтологической величине свет божественной сопричастности, в результате чего даже происходит подспудное обесценивание всякой онтологической конкретности, совершающееся ради того, чтобы в ней открылась единая и истинная реальность — реальность идеи.
Другим истолкователем метафизического символизма является Гуго Сен-Викторский. В глазах этого мистика XII в. мир предстает как quasi quidam liber scriptus digito Dei, как некая книга, начертанная Божьим перстом (De tribus diebus, PL 176, col. 814), и чуственное восприятие красоты, свойственное человеку, направлено прежде всего на то, чтобы раскрыть красоту умопостигаемую. Возможность видеть, слышать, обонять и осязать, которой мы с радостью пользуемся, раскрывает нам красоту этого мира, но тем самым заставляет усматривать в ней отображение красоты Божьей. Комментируя трактат Псевдо-Дионисия «О небесной иерархии», Гуго возвращается к тематике, которую наметил Эриугена, но заостряет внимание на эстетическом моменте:
«Omnia visibilia quaecumque nobis visibiliter erudiendo symbolice, id est figurative tradita, sunt proposita ad invisibilium significationem et decorationem… Quia enim in formis rerum visibilium pulchritudo invisibilis pulchritudinis imago est».
«Все зримое дано нам для обозначения и объяснения невидимого, для нашего наставления зримым, символическим способом, то есть образно… Ибо красота зримых вещей заключается в их форме… видимая красота есть образ красоты невидимой».
(Hierarchiam coelestem expositio, PL 175, col. 978, 954).Учение Гуго, более детально разработанное, чем учение Эриугены, еще критичнее утверждает символический принцип на сопоставлении (collatio) и даже (как справедливо отмечалось) приобретает почти романтическую окраску, заостряя внимание на недостаточности земной красоты, которая пробуждает в душе, ее созерцающей, чувство неудовлетворения как воздыхания по Другому (De Bruyne 1946, II, p. 215216). Это чувство являет собой впечатляющую параллель к современной меланхолии от созерцания истинной красоты, но все-таки меланхолия Гуго больше напоминает ту радикальную неудовлетворенность, которую испытывает мистик при созерцании земного мира.
В этом плане эстетика Сен-Викторской школы обнаруживает способность к символической реабилитации безобразного (в этой связи также привлекались аналогии с романтическим понятием иронии), посредством динамической концепции созерцания: видя нечто безобразное, человеческая душа ощущает, что не может обрести умиротворение в этом созерцании (не поддается той иллюзии, которой может поддаться при созерцании прекрасного) и естественным образом начинает желать истинной и незыблемой красоты (Hier. Coel., col. 971–978).
6.4. Библейский аллегоризм
Переход от метафизического символизма к вселенскому аллегоризму нельзя представить в понятиях какой- либо логической или хронологической деривации. Застывание символа в аллегории — это процесс, который, безусловно, находит свое подтверждение в некоторых литературных традициях; но коль скоро речь идет о Средневековье, то здесь (как уже отмечалось в научной литературе) оба способа созерцания сосуществуют одновременно.
Проблема, скорее, заключается в том, чтобы уяснить себе, как Средневековью удается подвергнуть столь основательному теоретическому осмыслению тот метод познания и выражения, который мы далее (дабы смягчить противопоставление) будем называть не символическим или аллегорическим, а просто «изобразительным».
Картина здесь складывается весьма сложная, мы обрисуем ее лишь вкратце (см.: De Lubac 1959–1964 и Compagnon 1979). Стремясь противостоять гностической переоценке Нового Завета, в результате которой Ветхий Завет полностью утрачивал свое значение, Климент Александрийский проводит различие между этими частями Писания и указывает, что они дополняют друг друга, тогда как Ориген углубляет эту позицию, говоря о необходимости их параллельного прочтения. Ветхий Завет — это образ Нового, он — буква, духом которой является Новый Завет, или, говоря на языке семиотики, Ветхий Завет — это риторическое выражение, содержанием которого является Новый. В свою очередь, Новый Завет также имеет образный смысл, поскольку является обетованием будущего. Ориген кладет начало «богословскому дискурсу», который уже не является рассуждением о Боге (или только рассуждением о Нем), но предполагает и разговор о Писании.
Уже у Оригена речь заходит о буквальном, нравоучительном (психическом) и мистическом (духовном) смысле Писания. Отсюда возникает триада (буквальный, тропологический и аллегорический пласты смысла), которая постепенно преобразуется в теорию четырех ступеней толкования Писания: буквальный, аллегорический, нравоучительный и анагогический смыслы (к последнему мы еще вернемся).
Было бы очень интересно (но не в рамках нашего исследования) проследить диалектику данного истолкования и ту неспешную работу, которая потребовалась, чтобы его обосновать, ибо, с одной стороны, именно «правильное» прочтение двух Заветов делает Церковь хранительницей экзегетической традиции, а с другой, именно эта традиция дает возможность правильного прочтения: так возникает герменевтический круг, причем круг, тенденциозным образом исключающий все те интерпретации, которые не признают абсолютно авторитета Церкви и, следовательно, не считаются с ее санкциями относительно способа прочтения текстов.
С самого начала герменевтика Оригена и других святых отцов тяготеет (пусть даже под различными именами) к такому прочтению библейского текста, который в другом месте получил определение типологического: ветхозаветные персонажи и события в силу их действий и особенностей рассматриваются как прообразы, предвосхищения новозаветных персонажей. Независимо от происхождения этой типологии, она уже исходит из того, что все виды фигурального выражения (образ, символ или какая-либо аллегория) представляют собой не лингвистическое явление, не иносказание, но имеют прямое отношение к взаимосвязи самих событий. Здесь мы имеем дело с различием между allegoria in verbis (аллегорией в словах) и allegoria in factis (аллегорией в делах). Поэтому не в словах Моисея или Псалмопевца (коль скоро это слова) следует усматривать некий высший смысл (хотя надо делать и это, если мы признаем, что эти слова метафоричны): сами события, описанные в Ветхом Завете, Бог предрасположил к тому (как если бы история представляла собой начертанную Его рукой книгу), чтобы они действовали как образы нового закона. [15]