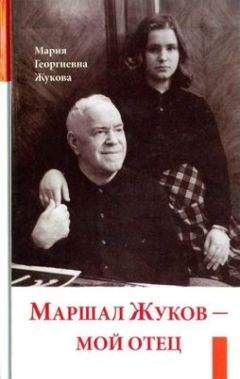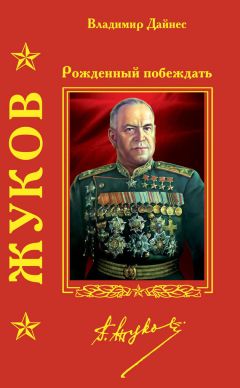Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга третья
Для такого глубокомысленного вывода ни опубликованный ею фрагмент платоновского рассказа, ни сама гоголевская сцена не дают ни малейших оснований. Но — что правда, то правда, — Сталин в своей ссылке на Гоголя полностью проигнорировал тот несомненный факт, что черноногая девчонка Пелагея вовсе не попала «в неловкое положение», дорогу путникам она указала правильно. Гоголь даже прямо говорит, что без девчонки им нипочем бы не выбраться из сложного сплетения многочисленных проселочных дорог, которые «расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка».
Вот в этой ошибке Сталина, которую Платонов, конечно же, не мог не заметить, исследовательница и видит ключ к разгадке истинной подоплеки этого платоновского замысла:
► Сталин использует в своей речи литературное включение (искажая его до обратного смысла), которое призвано играть роль уничижительного для оппонентов сравнения; в свою очередь, Платонов вводит в свое художественное пространство политическую цитату, которая содержательно, через текст рассказа, корреспондируется с изначальным гоголевским смыслом; возникает эффект обратного сравнения. Вынесение в эпиграф цитаты из речи И. Сталина, а затем зеркальное толкование ее путем соотнесения с текстом «Мертвых душ» Гоголя позволяет говорить об особом типе пародийной аллюзии у Платонова.
(Рассказ «Черноногая девчонка» и его историко-литературный контекст. Статья и публикация Елены Колесниковой. «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. Стр. 808).Этот изначальный сокровенный смысл платоновского замысла, полагает исследовательница, и предопределил «судьбу рассказа — быть погребенным в дальних ящиках стола»:
► Рассказ не окончен. Наброски к нему, хранящиеся в Пушкинском Доме, ориентированно можно отнести к 1937 году. Поскольку с такой степенью иронии в адрес Сталина он не мог появиться в печати, вероятно, для Платонова это был некий творческий экзерсис, изначально не рассчитанный на публикацию.
(Там же. Стр. 810)Трудно, даже невозможно представить себе, чтобы в 1937 году у Платонова вдруг возникло желание заняться такого рода «творческими экзерсисами». Как говорится, нашел время и место. Даже если бы и явилась у него потребность поглумиться над тупостью Сталина, не сумевшего правильно прочесть классическую гоголевскую сцену, разве посмел бы он тогда на это решиться?
Но все дело в том, что такая потребность вряд ли могла у него даже и возникнуть.
Возмутившее Сталина упоминание его имени в повести «Впрок» тоже не давало оснований для сталинского гнева. Но в середине 30-х годов имя Сталина, если и мелькнет на страницах платоновских повестей и рассказов, является там перед нами уже совсем в ином качестве.
Например, вот так:
► Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал Сталина, как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысл своего существования, — и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности.
(А. Платонов. Джан. Проза. М., 1999. Стр. 523)А вот — в рукописном варианте той же повести:
► Чагатаев давно уже жил чувством и воображением Сталина, сначала он любил его нечаянно и по-детски за то, что он стал есть пищу в детском доме... Без него, как без отца, как без доброй силы, берегущей и просветляющей его жизнь, Чагатаев не мог ни спастись тогда, ни вырасти, ни жить теперь.
(А. Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000. Стр. 383)Так же трепетно обращается своей мыслью к Сталину герой платоновского «Ювенильного моря»:
► В вещах Босталоевой Вермо нашел «Вопросы ленинизма» и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени мира.
Читая, Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу...
(Андрей Платонов. Собрание сочинений. Том 2. М., 1998. Стр. 509)Может быть, так думает и чувствует не сам Платонов, а его герои, за которых автор ответственности не несет?
Но вот — в газетной заметке 1937 года — ту же мысль и то же чувство Платонов высказывает уже прямо, от себя:
► Нигде нет большего ощущения связи и родства людей между собой, чем у нас. Больше того, у нас, у нескольких советских поколений, есть общий отец — в глубоком и проникновенном и принципиальном смысле. Мы идем вслед за ним.
(А. Платонов. Преодоление злодейства. В кн.: Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. Стр. 350)Ну, в газетной статье, да еще в 1937 году, чего не напишешь!
Но ту же мысль мы встречаем и в записной книжке Платонова;
► Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин — отец или старший брат всех, Сталин родитель свежего человечества, другой природы, другого сердца.
(Л. Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000. Стр. 157)И тут уже не остается сомнений, что это его собственная, и не случайно мелькнувшая, а любимая, задушевная мысль, к которой он возвращается постоянно.
Все это окончательно убеждает нас в том, что Платонов не мог, никак не мог в 1937 году замыслить — и даже начать писать — иронический рассказ, «пародийная аллюзия» которого была изначально нацелена на Сталина.
И суждено было этому рассказу остаться незавершенным фрагментом, погребенным в дальних ящиках стола, совсем не потому, что это был «некий творческий экзерсис, изначально не рассчитанный на публикацию».
Совершенно очевидно, что, минуя обычные для него мучительные поиски заглавия и сразу, решительно назвав этот свой рассказ сталинским (именно сталинским, а не гоголевским) словосочетанием, да еще подкрепив это эпиграфом, взятым из бывшего тогда у всех на слуху сталинского доклада, Платонов как раз рассчитывал на то, что уж этот-то его рассказ наверняка будет опубликован. Ну, а дальше случилось то, что только и могло случить с таким писателем, как Платонов. У его героев (точнее — героинь) едва только они появились на свет, сразу же проявилась, как говорит Горький, «своя биологическая воля». И эта их биологическая воля повела, потащила автора... Куда? Это мы уже никогда не узнаем, но, во всяком случае, не туда, куда он поначалу собирался их повести.
Но и того, что мы увидели на тех страницах этого рассказа, которые до нас дошли, тоже довольно, чтобы понять, почему он не стал его продолжать: такой крутой замес жестокой жизненной правды в печатной советской литературе в то время был уже невозможен.
Платонов был «вопрекистом» не потому, что ему это нравилось, а потому, что иначе у него просто не получалось. Не могло получиться.
Это было не слабостью его, а силой. И сам он это великолепно понимал, на этой своей силе настаивал, — хотя именно она была источником, первопричиной всех выпавших на его долю бед и страданий.
Однажды (в рецензии на книгу Виктора Шкловского «О Маяковском») он очень ясно это сформулировал:
► Автор слишком профессионал, чтобы быть художником, предавшимся своему делу со страстью невинности, с надеждой неопытности. Профессионал любого дела знает, что у него «не получиться не может», что удача его не минует, рука сама знает, как делать. Надо, однако, отказаться от сознания собственной удачи, чтобы научиться вперед работать безошибочно...
Опытность в искусстве может предупреждать ошибки и предохранять от создания шедевров. Один писатель сказал как-то: мы слишком опытны, чтобы не напечататься! Это — отвратительная уверенность, потому что писательский опыт, не обновляемый, не питаемый жизненной судьбою, есть гибель для художника.
Писатель в каждой своей новой вещи должен быть готовым на риск ошибки и провала, потому что он не только строитель, но и исследователь.
(Андрей Платонов. Размышления читателя. М., 1980. Стр. 123-124)Исследователь — на то он и исследователь! — не может знать заранее, каков будет результат его исследования.
Платонов не стал продолжать задуманный им рассказ «Черноногая девчонка», потому что сквозь «магический кристалл» начал уже различать, куда его ведут обретшие свою «биологическую волю» его героини. Он понял, что выходит не совсем то, а может быть, и совсем не то, что он задумал. Другой бы, наверно, сумел навязать взбунтовавшимся героям свою волю. Но он этого не умел.