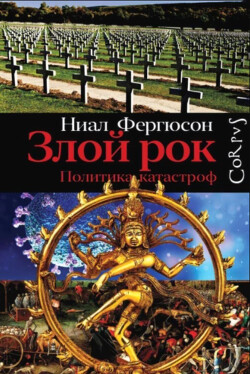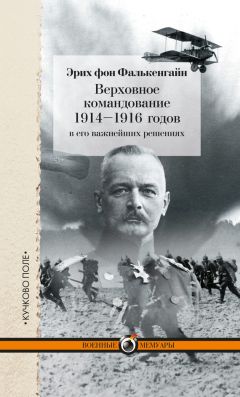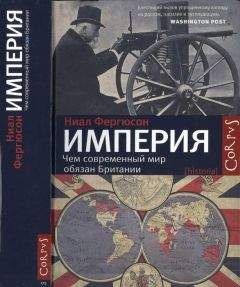Горечь войны. Новый взгляд на Первую мировую - Фергюсон Ниал (Нил)
Социологическая совместимость образованного среднего класса и радикального национализма объясняет высокую степень преемственности последнего от германского национал-либерализма {243}. Инаугурационная лекция Макса Вебера во Фрайбургском университете остается самым громким призывом к возрождению национал-либерализма под флагом Weltpolitik {244}. Впрочем, такие голоса слышались отовсюду. Заметную роль сыграли, например, историки. Они сконструировали миф об объединении, имевший огромное значение для национал-либералов: кайзеровские сторонники доктрины “Срединной Европы” (Mitteleuropa) как таможенного союза с доминированием Германии (позднее она стала одной из официальных целей войны) подчеркивали роль Германского таможенного союза (Zollverein) в объединении страны {245}. Прежде всего, Национал-либеральная партия и Германский союз обороны тесно сотрудничали во время обсуждения военных законов 1912 и 1913 годов. Август Кейм заявил, что “военные вопросы не имеют никакого касательства к партийной политике”, и попробовал привлечь на свою сторону депутатов рейхстага от правых партий и национал-либералов. Но эти рассуждения о “неполитичности” были обычным приемом немецких националистов, и в действительности он мог выиграть больше всего, тесно сотрудничая с лидером Национал-либеральной партии Эрнстом Бассерманом. Лозунг последнего — “Бисмарк продолжает жить в народе, а не в правительстве” — адресован национал-либеральному ядру “радикального национализма”. Историк Фридрих Мейнеке пользовался подобной лексикой {246}. Эдмунд Ребман, национал-либерал из Бадена, провозгласил в феврале 1913 года: “У нас есть оружие, и мы хотим пустить его в ход”, если потребуется, чтобы добиться “того же, что и в 1870 году” {247}. В немецком радикальном национализме было удивительно мало подлинно нового: костяк движения, как и в семидесятых годах, составляли аристократы из верхушки среднего класса с развитым чувством истории.
Разумеется, кое-кого революционные порывы уводили за политические рамки старого германского либерализма. Генрих Класс мрачно заметил, что желанно даже поражение в войне, поскольку оно доведет “нынешнюю политическую фрагментацию до хаоса” и позволит претвориться “могучей воле диктатора” {248}. Неудивительно, что один или два члена Германского союза обороны в двадцатых годах XX века примкнули к нацистам {249}. Даже кайзер, в то время мечтавший о диктаторских полномочиях, вдохновлялся примером Наполеона {250}. С этой точки зрения субъективному доводу Модриса Экстейнса о том, что Первая мировая война представляла собой противостояние культур — революционной, модернистской Германии и консервативной Англии (оставим в стороне претензии к этому подходу), следует отдать предпочтение перед тем давним взглядом, будто к войне привела реакционная приверженность Германии “династическому… идеалу государства”, противоречащему “современному революционному и национал-демократическому принципу самоуправления”. Это было правдой лишь в октябре 1918 года, когда президент Вудро Вильсон заявил, что условием перемирия станет революция в Германии {251}. Тем не менее неясно, насколько германский радикальный национализм до 1914 года отличался от радикального национализма в других странах Европы. Вопреки Экстейнсу, есть все основания считать, что сходства было больше, чем различий {252}.
Антимилитаризм
“Пацифизм” (это слово появилось в 1901 году) был, несомненно, одним из наименее успешных политических движений начала XX века {253}. При этом неверно обращать внимание лишь на тех, кто прямо называл себя пацифистами: это значило бы недооценивать распространение в Европе массового антимилитаризма.
В Англии Либеральная партия победила в трех избирательных кампаниях подряд: в 1906 году, в январе и декабре 1910 года (в третий раз, однако, при поддержке лейбористов и ирландских националистов), одолев более воинственно настроенных консерваторов и либералов-унионистов. Диссентерские воззрения, кобденовские вера в свободную торговлю и неприятие войны, гладстоновское предпочтение международного права политическому прагматизму — Realpolitik, а также отвращение Великого старца У. Гладстона к расходам на военные нужды и исторически сложившееся неприятие большой армии — вот лишь некоторые из либеральных традиций, обусловливающих миролюбивую политику. К этому следует прибавить вечную озабоченность партии ирландскими делами и парламентской реформой {254}. “Новый либерализм” эдвардианской эпохи прибавил к перечисленному увлечение перераспределением бюджетных средств и “социальными” вопросами, а также рядом популярных теорий. (Вроде учения Дж. А. Гобсона о пагубной взаимосвязи финансовых интересов, империализма и войны, рассуждений Г. У. Массингема о вреде тайной дипломатии и лицемерной доктрины баланса сил.) Подобных откровений было хоть отбавляй в либеральной прессе — особенно на страницах Manchester Guardian, Speaker и Nation {255}.
Некоторые авторы-либералы были менее миролюбивы, чем иногда считается. Одним из самых известных образчиков довоенной либеральной мысли стал трактат Нормана Энджелла “Великое заблуждение. Этюд об отношении военной мощи наций к их экономическому и социальному прогрессу” [18] (книга опубликована под этим названием в 1910 году) {256}. На первый взгляд, книга Энджелла представляет собой эталон пацифистского трактата. По его мнению, война экономически бессмысленна: порожденное гонкой вооружений налогово-бюджетное бремя чрезмерно тяжело, победителям непросто получить контрибуцию, “торговля не может быть уничтожена или захвачена военной силой”, а колонии не служат источником фискального дохода. “Что является гарантией доброго отношения одной страны к другой? — вопрошает Энджелл. — Сложная зависимость не только в экономическом, но и во всяком другом смысле. Нападение одного государства на другое связано всегда с ущербом для нападающего” {257}. Более того, война бессмысленна и в социальном отношении, поскольку общие интересы наций менее конкретны, нежели общие интересы классов:
Мы увидим, что в корне конфликта между армиями и правительствами Германии и Англии лежит не противоположность германских и английских интересов, но вражда внутри обоих государств между демократией и автократией, или между социализмом и индивидуализмом, между реакцией и прогрессом или как бы их иначе ни называли социологи {258}.
Норман Энджелл сомневается, что всеобщая воинская повинность способна укрепить нравственное здоровье нации. Напротив, ее введение означает “онемечивание Англии”, хотя бы и “ни один немецкий солдат никогда не вступил на нашу почву”. Позднее Энджелл стал ревностным сторонником Лиги Наций, членом Палаты общин от лейбористов и лауреатом Нобелевской премии мира (1933): все это способствовало пацифистской репутации “Великого заблуждения”.