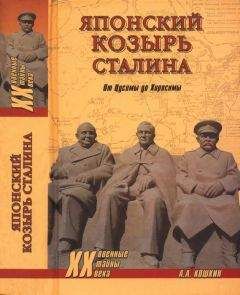Сборник статей - И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата
Обе песни имеют общие черты с «Другим хором». В первой песне синица, как и в хоре, живет за морем. Вторая песня, как и «Другой хор», содержит указание на то, каким именно было море (в песне – теплое, в хоре – холодное); и там, и тут синицу расспрашивают о заморской жизни, и она отвечает, перечисляя разные группы заморских жителей.
Но существует и дополнительная связь этих двух песен с маскарадом: у Чулкова за второй песней о синице следует песня «Станем братцы петь старую песню» [Чулков: № 200].Эта песня представляет для нас двойной интерес. Во-первых, автором этой песни принято считать Ф.Г. Волкова, устроителя маскарада «Торжествующая Минерва» [Новиков: 41], [Каллаш: 170–171]. Во-вторых, эта песня рассказывает о золотом веке, то есть имеет прямое отношение к маскараду, в котором в шествии добродетелей была группа Золотого века. Более того, по форме она напоминает хоры маскарада, и можно с большой степенью вероятности предположить, что в нашем распоряжении второй из хоров, написанных для маскарада, но по какой-то причине выключенных из окончательного сценария (и, соответственно, не вошедших в печатное описание).
В «Преуведомлении» к первой части своего сборника Чулков указывал, что он включил в него песни «театральные, маскарадные, подблюдные, хороводные» [Чулков: 8].Только названные песни в собрании Чулкова можно отнести к маскараду. Чулков собирал свои песни на протяжении длительного периода, нет сомнения, что в 1763 году песни его уже интересовали. Как ученик гимназии при Московском университете, знакомец, а возможно, и актер труппы Волкова, актер университетского, ас 1761 года и придворного театра [Западов: 270],Чулков не мог не знать устроителей маскарада. От кого-то из них Чулков, видимо, и получил список песен, которые не вошли в маскарад10.
Если это предположение верно, то можно добавить к нему еще одно. Между двумя песнями у Чулкова, в которых фигурирует синица (№ 196 и 199), находятся еще две песни, одна о смерти «комарища», который упал с дуба и которого оплакивают мухи, другая – о смерти мухи, которая утонула в бурном море и о которой горюют комары. Обе песни по своему характеру близки к маскарадной «превратной» тематике, и обе, возможно, рассматривались устроителями маскарада как альтернативный синице вариант для «Хора ко превратному свету». Для окончательного варианта, однако, песни о мухе и комаре выбраны не были, не попала в окончательный вариант и синица (она осталась в «Другом хоре»). Вместо нее, как мы видели, в хоре появляется собака11.
В окончательный вариант «Хора на Превратный свет» из названных песен попало, если оставить в стороне «народную» стилистику хора, только указание на то, что главный персонаж (теперь уже собака) возвращается из-за моря, при этом «теплое море» песни о синице превратилось уже в «Другом хоре» в «полночное море» и «холодный океян»; таким море осталось и в окончательном варианте. Кроме того, из песни о синице была заимствована система перечисления: воеводы, дьяки, писцы, подьячие, старухи, кокетки, бездельники, большие бояре, дворянские дети, девки, невежи, ораторы, стихотворцы, купцы, крестьяне и проч., с той разницей, что каждой группе были приписаны свои пороки, точнее, их отсутствие «за морем» и наличие «у нас».
Эти элементы, сохраненные при всех усечениях текста, видимо, были важны для устроителей маскарада. Возможно, как и в группе Момуса, за загадочной синицей, а потом собакой стоял какой-то замысел императрицы, который должен был быть подан только в виде намека и адресован небольшой группе посвященных. Лицом же, которое недавно вернулось из-за «полночного моря», из-за «холодного океяна», мог быть Н.И. Панин, который долгое время был русским посланником в Швеции и вернулся в Россию за два года до переворота. «Двенадцать лет, проведенные в Стокгольме, – пишет Бильбасов, – не пропали даром. Шведский „период свободы“, эпоха шляхетской демократии, когда Швеция была „аристократическою республикою с жалким подобием короля^ не могла не произвесть на Панина известного впечатления». В период 1760–1762 годов у Панина была возможность довольно много и откровенно говорить с Екатериной, в том числе указать на «отличия, резкие, бросающиеся в глаза, между государственным различием Швеции и России». По мнению Дэвида Рансела, Екатерину даже можно назвать в эти годы ученицей Панина. Хорошо известно и о попытках Панина провести, опираясь на поддержку императрицы, реформу государственного управления. Манифест, подготовленный Паниным, Екатерина подписала 28 декабря 1762 года и вечером того же дня уничтожила [Бильбасов: 138–139 и след.], [Ransel: 44 и след.].
В Панине Екатерину в этот период особенно раздражало не столько прожектерство и не его критические взгляды на Россию, многое из того, что говорил и писал Панин, она разделяла. Но Панин, как, по крайней мере, казалось Екатерине, видел дурное только дома.
В «Собственноручном наставлении Екатерины II князю Вяземскому при вступлении его в должность генерал-прокурора» в феврале 1764 года она пишет, определенно намекая на Панина: «Иной думает для того, что он был долго в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли все учреждать должно, а все другое без изъятия заслуживает его критики не смотря на то, что везде внутренние распоряжения на нравах нации основываются» [Сборник РИО: 346]. Если намек на Панина в маскараде действительно присутствовал, то в окончательном варианте он был представлен здесь собакой, которая вернулась из Швеции и стала было рассказывать, чего нет за морем, но ей запретили:Я бы рассказати то умела,
Если бы сатиры петь я смела,
А теперь я пети не желаю,
Только на пороки я полаю.
За морем, хам, хам, хам, хам, хам, хам.
Выбрав исходно синицу, Екатерина, возможно, помнила и о пословице, в которой фигурировали и синица, и море: «Ходила синица море зажигать: моря не зажгла, а славы много наделала». Позднее Екатерина использует ее в своей сказке «Горе-богатырь» (1774). Именно так видела императрица панинский проект реформы к концу осени 1762 года (или, по крайней мере, так хотела видеть): все реформаторские планы Панина свелись к старой песне – учреждению Верховного совета при императрице.
Но в подборке песен, которые оказались в сборнике Чулкова, была еще одна общая тема: амурные отношения между комарами и мухами, а в первой песне о синице – между снегирем и его предполагаемой невестой. Комический эффект в песнях о мухе и комаре возникает оттого, что о ничтожных мошках сообщается со всей возможной важностью, об их переживаниях и отношениях поется как будто они крайне важные особы (комар представлен как «камарище», а муха оказывается «княгиней»). В первой песне о синице, как мы помним, комизм выборов невесты заключается в том, что все невесты состоят в родстве со снегирем. Можно предположить, что этот сюжет также относился к Панину и представлял графа Панина, княгиню Е.Р. Дашкову и их загадочные отношения. Оба они к концу осени 1762 года представлялись Екатерине назойливыми насекомыми. Оба полагали себя персонами крайне значительными: Панин носился со своей реформой, которая обернулась ничем, Дашкова – со своим участием в перевороте. Их загадочная дружба вызывала раздражение Екатерины и пересуды при дворе. Раздражение дошло до того, что императрица запретила Панину рассказывать о государственных делах Дашковой. Пересуды же касались самих отношений: Дашкова была дальней родственницей Панина, супругой его племянника, а по слухам – его внебрачной дочерью, которая состояла с ним в любовной связи. Екатерина, видимо, не нашла все же удобным намекать на эти слухи, и в маскараде остались только намеки на любовь Панина к Швеции и готовность ругать Россию.
Вернемся к Диогену, который был философом-киником. Киников, как известно, называли «собаками». В сочинении Диогена Лаэртского сам Диоген постоянно говорит о себе как о псе или собаке. Так, вспоминая, что он был продан в рабство, он говорит, что как собака прибежал обратно к тем, кто его продал; когда «его спросили: «Если ты собака, то какой породы?» Он ответил: «Когда голоден, то мальтийская, когда сыт, то молосская, из тех, которых многие хвалят, но на охоту с ними пойти не решаются, опасаясь хлопот; так вот и со мною вы не можете жить, опасаясь неприятностей»; в другом эпизоде «Александр подошел к нему и сказал: Я – великий царь Александр. – А я, – ответил Диоген, – собака Диоген». Его смерть также связывали с собаками. «Говорят, – пишет Диоген Лаэртский, – что, когда он хотел разделить осьминога между собаками, они искусали ему мышцы ног, и от этого он умер. <… > На его могиле поставили столб, а на столбе – собаку из паросского камня. <… > Некоторые рассказывают, что, умирая, он приказал оставить свое тело без погребения, чтобы оно стало добычей зверей <…> чтобы он принес пользу своим братьям», то есть просил, чтобы его тело отдали на съедение собакам [Диоген Лаэртский: 215–226].