Жорж Ленотр - Повседневная жизнь Версаля при королях
Поскольку дофин был большим оригиналом, то и дело поражая своих приближенных неожиданными прихотями, он, казалось, был способен получать странное удовольствие, наблюдая за этим нелепым и всеми презираемым созданием. Но вскоре пришлось признать, что в приязни дофина к отвратительному существу обнаруживались все признаки настоящего чувства.
Поначалу возникло предположение, что принца ввел в соблазн огромный бюст неуклюжей девицы, ибо скупая к ней во многих других отношениях природа наделила ее колоссальными буграми, по которым Монсеньор[73] фамильярно хлопал ладонями, как «по литаврам». Но когда не осталось ни малейших сомнений, что будущий король Франции ни за что не расстанется с этой фрейлиной, в уродине пришлось разыскать иные, доселе сокрытые привлекательные стороны.
В ней вдруг обнаружили пропасть здравого смысла и бездну остроумия, а также несравненный талант умело поддерживать разговор и «что-то такое проникновенное и непринужденное», чем она превосходила самых искусных жеманниц двора. Высказывались даже суждения по поводу красоты ее глаз и изящества рук… Короче, не имея возможности расхвалить ее походку (как у перекатывающейся с боку на бок бочки), ни цвет лица (как из дубленой кожи), ни вздернутый к небесам нос, ни беззубый рот, все поспешили согласиться, что она наделена опаснейшим из очарований: «умением потрясти душу и заставить себя полюбить». Иные уже видят в ней вторую Ментенон[74] и заискивают перед вероятной властью… Некоторые рискуют даже ухаживать за нею, однако безобразная особа закована в панцирь добродетели.
Вскоре, поняв, какую силу берет она над наследником престола, начинает испытывать тревогу и сам король. Знаменитому королевскому духовнику отцу Лашезу поручено наставить влюбленного принца. Тот возмущен: как смеют упрекнуть его в том, что возле него есть настоящий, готовый всегда выслушать друг и верный советчик! Да он и выбрал ее из числа самых некрасивых именно для того, чтобы никто не вздумал бить тревогу, вообразив себе нечто иное, нежели платоническая дружба!
Изумившись такой скрытности, король решает напрямую поговорить с сыном и обращается к нему с кротким увещеванием: «Мне мало пристало проповедовать то евангелие, которому сам я, к несчастью, следовал так плохо. Мой дурной пример должен послужить вам уроком и предостеречь вас от тех же заблуждений. Если вы меня в этом послушаете, вы никогда не заведете любовниц…» На этом отец и сын с чувством расцеловались.
Узнав от самого дофина, что чистота ее подвергнута сомнению, Шуэнша в ярости решила тотчас же покинуть двор и скрыться в монастырь. Августейшему другу стоило больших усилий помешать ей сыграть роль второй Лавальер и растолковать, что такая выходка лишь подтвердит худшие подозрения. Она соблаговолила остаться. В сущности до того, чтобы Шуэнша превратилась, по образцу мадам де Ментенон, в тайную королеву Франции, было недалеко.
Устав от напряжения и интриг придворной жизни, дофин построил себе неподалеку от старинного замка Медон (восходящего к XVI столетию) дворец в современном вкусе. По окончании работ он пригласил отца посетить его. Король-Солнце, приверженный к великолепию, был решительно обескуражен: «Фу! Это гораздо больше походит на дом банкира, чем на дворец благородного принца», — сказал он и, отказавшись переступить порог, повернул прочь. Угодить ему было нелегко: то, что сохранилось от Нового замка, вовсе не заслуживает пренебрежения. До недавней поры парижане специально приезжали его смотреть, теперь они этого уже не делают: замок оказался чересчур близко. Но место это действительно восхитительно: изумительные террасы исчезнувшего Старого замка[75] образуют дальний план, а Новый дворец хоть и пострадал в 1871 году, все еще красуется своими сильными и благородными линиями, ничуть не оправдывая сарказма великого короля. Скорее всего, тот боялся, войдя к сыну, встретить уродливую обитательницу замка и не хотел приветствовать ее в качестве хозяйки.
Дело в том, что связь дофина и Шуэнши (платоническая или нет) со временем превратилась в официальную, совсем как союз короля и вдовы Скаррона. Поначалу безобразная девица жила на улице Сент-Огюстен в Париже и появлялась в Медоне лишь тайно. Она приезжала в карете по ночам и «в одежде простой женщины шла через двор пешком. Ей отворяли дверь на антресоли, где Монсеньор и проводил с нею несколько часов. Мальчик-слуга приносил им еду». Скоро такие встречи стали более открытыми: придворные, беспокоясь о своем будущем, сумели сюда проникнуть, и «вонючка-Шуэнша» превратилась в настоящую, признанную всеми фаворитку.
С антресолей она перебралась в парадные комнаты и тут спокойно восседала в кресле в то время, как герцогиня Бургундская довольствовалась табуретом. Даже приветствуя принцессу и самого Монсеньора, она не покидала кресла. Высказывалась она немногословно, повелительно и явно претендовала на оказание ей королевских почестей.
На каком же основании мог появиться у нее такой апломб и высокомерие? Уж не связал ли себя с нею влюбленный до безумия дофин узами тайного брака? Именно так полагает Монгредиен — несколько суховатый хроникер XVII века, приводя тому веские доводы. Говорят, от этого брака родился прелестный мальчик; он из колыбели был куда-то отдан и умер спустя два года.
В 1711 году в своем Медоне скончался дофин. В тот же день его обожаемая (и достаточно бескорыстная) фаворитка покинула дворец и навсегда исчезла с придворного горизонта.
Она жила на улице Турнель в Париже; из королевской казны ей платили пенсию в двенадцать тысяч ливров, и она тратила их на благотворительные и богоугодные дела. О ее существовании настолько забыли, что, когда в 1732 году она умерла, ни один из придворных, некогда увивавшихся возле «медонской королевы», не появился на похоронах. Только четверо священников да домашние слуги проводили тело Шуэнши на кладбище Сен-Поль.
Питомец Фенелона
В угловой части центрального выступа дворца, там, где окна смотрят на юг, есть апартаменты, по которым проходишь с особым волнением. Перестроенные в эпоху Луи-Филиппа, они не могут соперничать с великолепием залов второго этажа, но зато способны тронуть душу меланхолическими воспоминаниями.
Со времен Людовика XIV эти помещения были предназначены для «детей Франции».[76] На протяжении столетия от середины XVII до середины XVIII века здесь жили и один за другим умерли пять принцев, почти забытые историей, блеклые, невнятные фигуры. Ни один из этих пятерых, рожденных носить корону, так и не стал королем. А когда-то они притягивали к себе надежды измученной абсолютизмом страны.
В этом уголке огромного замка постоянно теплилась идея справедливого правления, которое смогло бы примирить авторитет монарха с правами народа. Не погрешив против истины, можно было бы даже сказать: именно здесь за восемьдесят лет до 1789 года тайно появилась на свет Французская революция. Ее родителями и скрытыми восприемниками были: принц королевской крови, знатный вельможа (герцог де Бовилье),[77] маршал Франции (Вобан)[78] и архиепископ (Фенелон).[79]
Все это происходило в окружении герцога Бургундского, внука Короля-Солнце. Его отец, Старший дофин, усвоил от Боссюэ убежденность в том, что «короли — это боги, и поэтому в известной степени они причастны божественной свободе». Несмотря на свой ум, Боссюэ свято верил в целесообразность и незыблемость абсолютизма. Однако, как мы видели, взращенный им принц являл собою довольно жалкое божество: с грузным телом и пустой головой, любитель скандалов и азартных игр, упрямый, ленивый, высокомерный и малодушный, он умер «в обжорстве и апатии» на руках своей Шуэнши. Вот тогда-то ко всеобщему удовлетворению его нелюбимый сын — герцог Бургундский и был провозглашен дофином.[80]
Имея перед глазами пример для подражания, он был кошмарным ребенком: его жестокость, приступы злобы, заносчивость наводили на всех ужас. В семнадцать лет, все такого же грубого и необузданного, его отдали на воспитание Бовилье и Фенелону. Те отважно взялись за дело, и «из этой мерзости вылупился на свет добрый, человечный, терпеливый, ласковый, скромный и благочестивый принц».
Все это хорошо известно, однако то, что кроткий Фенелон, которому принадлежала честь превзошедшего все ожидания успеха, был при этом революционером, об этом несколько забыли.
Живя при дворе и размышляя над воспитанием своего подопечного, он со временем приобрел столь же ясное, сколь и неутешительное представление о положении дел в стране. В 1695 году он осмелился приступить к сочинению своего знаменитого письма королю, которое по тону решительно диссонировало с похвалами и лестью, обычно ласкавшими чувства Его Величества. «Государь, ваше королевство покоится на руинах устоев государственности… Ваши подданные, коих вам надлежит любить, как собственных детей, умирают с голоду; земля почти заброшена, никто ее не обрабатывает, города и деревни пустеют, ремесла при последнем издыхании… Вся Франция уподобилась огромному, убогому, лишенному провианта госпиталю… И во всех этих несчастьях, Государь, виноваты Вы сами; Вы боитесь открыть свои глаза и боитесь, что кто-то вам их откроет…»
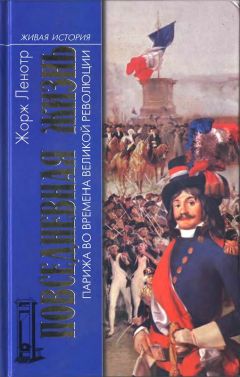

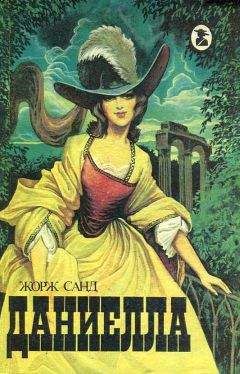
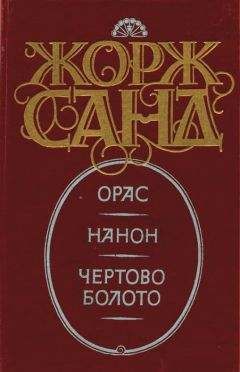
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](/uploads/posts/books/141636/141636.jpg)