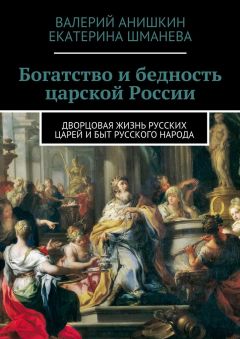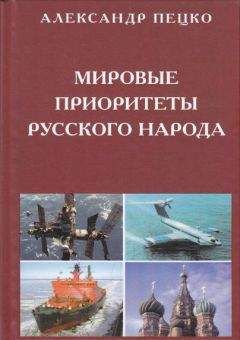Борис Миронов - Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации
Ряд замечаний под флагом борьбы с «субъективными бездоказательными авторскими суждениями» сделала Н.А. Иванова. Мои соображения, конечно, субъективны, как и соображения Н.А. Ивановой и любого историка. Однако бездоказательными их можно назвать только в том случае, если не читать монографию. Утверждаю: все мои важные выводы сделаны доказательно — у меня аллергия к научным рассуждениям, не подтвержденным эмпирически, а также к рассуждениям, в принципе не поддающимся верификации. В книге я обсуждаю только те проблемы, которые покоятся на строгой эмпирической базе. Поэтому в сделанных выводах лично я уверен. Сознаю, мои аргументы убеждают не всех, и, разумеется, с ними можно спорить. Но хотелось бы, чтобы сомнения в моих выводах также подкреплялись эмпирически, причем основываясь не на иллюстрациях, а на массовых данных, ибо иллюстрации не являются доказательствами.
Могли ли крестьяне воздействовать на интеллигенцию и коронную администрацию? Н.А. Иванова заявляет решительное нет. Этот взгляд до сих пор широко бытует среди историков, и оспаривают его преимущественно наши западные коллеги, менее отягощенные стереотипами. Но их выводы попросту игнорируются. Много сил отдал Я. Коцонис на опровержение этого тезиса{89}. К аналогичному выводу пришел А. Джонс: крестьяне использовали власть и интеллигенцию в своих интересах — через интеллигенцию пытались влиять на власть, а действия властей использовали, чтобы влиять на интеллигенцию. Они добивались от властей уступок, а от интеллигенции — постоянного роста внимания к своим чаяниям, потребностям и нуждам{90}. Дж. Бербанк, Дж. Бёрдс, М. Вернер, К. Годэн, Д. Мун, Ф. Шедьюи и другие убедительно показали: крестьяне не находились в состоянии пассивного сопротивления государству; они воздействовали на него; в пореформенное время между ними и государством существовало взаимодействие на почве закона и в рамках административной структуры{91}. Крестьяне оказывали давление на власти разными способами — жалобами, недоимками, бунтами, являвшимися моментами истины для власть предержащих{92}. Важным средством воздействия служило преуменьшение своего достатка, искажение сельскохозяйственной статистики. Преуменьшая урожайность и величину посевов (в совокупности примерно на 14–20%) и поголовье своего скота (примерно на 50%){93}, крестьяне склоняли интеллигенцию и власти к мысли, что их положение хуже, чем было на самом деле. Убедительные доказательства этого приведены в недавней монографии М.А. Давыдова{94}. Таким образом, мой вывод о воздействии крестьян на интеллигенцию и коронную администрацию находит эмпирическое подтверждение в массовых источниках, а вот возражения Н.А. Ивановой являются бездоказательными.
По мнению Н.А. Ивановой, мои группировки крестьянских хозяйств неверны, поскольку AM. Анфимов и Л.М. Горюшкин делали их по-другому. Но кто доказал, что группировки указанных уважаемых авторов — самые правильные. Многие исследователи с ними не согласны. Общепризнано: самым надежным критерием для имущественной идентификации крестьянских хозяйств является доход, но сведений о нем недостаточно. Все остальные классификации почти одинаково уязвимы. Мои выводы о степени расслоения крестьянства опираются на основательную эмпирическую базу и обоснованы в других моих работах{95}. И в данном случае обвинения критика беспочвенны.
Вызвала возражение Н.А. Ивановой моя оценка положения петербургских рабочих как типичного для страны в целом, «якобы вследствие существования всероссийского рынка в России с середины XVIII в.» Здесь смешано три проблемы — типичность положения петербургских рабочих, согласованность в изменении зарплаты в столицах и провинции и существование единого внутреннего рынка. Что касается типичности, то речь идет о динамике зарплаты, а не ее уровне. Согласованность изменения зарплаты в Петербурге и провинции доказывается в специальном параграфе{96}, и оппонент не привела ни одного контраргумента. Мнения историков о времени становления единого всероссийского рынка разделились и до сих пор в сообществе историков нет консенсуса относительно того, кто прав. Безапелляционный вердикт, выносимый Н.А. Ивановой, никогда не изучавшей этого вопроса, несомненно, говорит только о ее неординарной отваге.
Низкий размер народного дохода на душу населения в России по сравнению с самыми развитыми странами говорит не о стагнации или падении уровня жизни в стране, как полагает Н.А. Иванова, а о том, что россияне, несмотря на прогресс, не успели еще стать богатыми, о чем я прямо и заявляю: «Во избежание недоразумений и неверных толкований этого вывода (о повышении уровня жизни. — Б.М.), подчеркну: из моих расчетов не следует, что широкие массы российского населения, прежде всего крестьянство, в пореформенное время благодействовали или даже жили зажиточно. Они жили по-прежнему небогато, как, впрочем, и большинство населения других европейских стран, уступая лишь наиболее развитым из них. Но уровень их жизни, несмотря на циклические колебания, имел позитивную тенденцию — медленно, но верно увеличиваться, обусловливаясь общей благоприятной экономической ситуацией в стране»{97}.
«Отказывая русским революциям в объективной основе, Миронов по существу выводит эти революции за рамки мировых закономерностей, хотя постоянно подчеркивает, что Россия шла вровень со странами Запада», — полагает Н.А. Иванова. Но и здесь она сильно ошибается. Критик исходит из понимания объективной основы революции с марксистско-ленинской точки зрения, как сугубо экономической. Между тем политическая борьба, поражения в войне, оппозиционная деятельность интеллигенции — тоже объективные факторы. Моя концепция направлена против ленинского понимания причин революции, а не против отсутствия ее предпосылок. И в этом новом понимании русские революции очень напоминают революции в других странах, в том числе Великую Французскую революцию, о чем говорится в книге{98} и в полемических заметках С.В. Куликова.
Н.А. Иванова утверждает: «Миронов игнорирует то обстоятельство, что Россия и (западноевропейские. — Б.М.) страны находились на различных ступенях исторического развития». Между тем, думаю и пишу, что Россия живет в другом часовом поясе. Доказательству и объяснению отставания России посвящена книга «Социальная история», известная критику{99}.
К сожалению, у меня нет возможности продолжать дискуссию с уважаемым оппонентом. Но предполагаю: приведенных примеров достаточно, чтобы сделать правильное заключение о том, чьи суждения доказательнее.
Благодарен С.В. Куликову за поддержку моего тезиса, согласно которому императорская Россия являлась нормальной европейской страной, а не утконосом; как он изящно выразился: «Миронов открыл новую “старую” Россию». Мне самому идея нормальности в отличие от идеи уникальности нравится: это создает возможность для извлечения уроков из опыта других европейских стран, идти с ними в ногу, да и им служить иногда примером. Эта точка зрения находит все большую поддержку и в зарубежной историографии{100}. Согласен с С.В. Куликовым: «любая революция — хорошо отрежиссированный спектакль». Добавил бы только — победившая революция, так как неуспешная революция — это, как правило, плохо отрежиссированный спектакль.
Мне лестно, что И.В. Поткина высоко оценила междисциплинарный характер, системность, фундированность моего исследования и самостоятельность моего анализа. Действительно, без этих составляющих создать подобную книгу невозможно. Абсолютно согласен с ней: без длинных динамических рядов социально-экономическая история России останется неполноценной. Мне известны пять рядов за двести с лишним лет — рост российских мужчин, цены в Петербурге, хлебные цены в России, население и обороты внешней торговли. Три первых динамических ряда построены мною и представлены в книге. Их создание потребовало огромных усилий. Было бы замечательно, если бы каждый историк социально-экономического профиля оставлял после себя хотя бы один длинный динамический ряд.
8. «Он ловит звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы»
Не имею привычки отвечать на отзывы, пышущие недоброжелательностью и злостью, наполненные беспочвенными обвинениями. Но, к моему сожалению, сейчас невозможно уклониться от ответа: читатель может понять это как неспособность защититься. В.П. Булдаков уже совершенно несправедливо укоряет меня: якобы я не ответил на критику В.Л. Дьячкова и С.А. Нефедова{101}.
В.П. Булдаков: «дикие крики озлобленья»