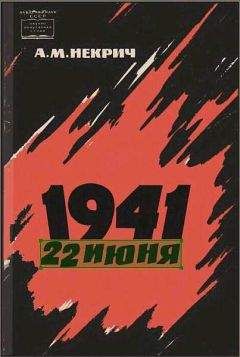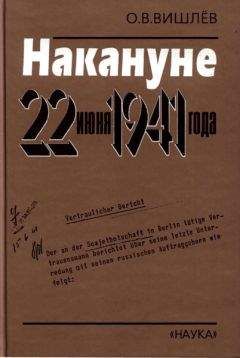Рустан Рахманалиев - Империя тюрков. Великая цивилизация
Лишь в начале осени 1506 г. братьям удалось подтянуть в Герат войска и выступить к Балху с большими силами. По пути к ним присоединились вассалы Хорасана и прибывший из Кабула Бабур со своими войсками. Все предвещало успех, и никто не сомневался в победе, хотя в отношении плана ближайших военных операций не было единства и каждый эмир предлагал свой план действий. Пока думали, как поступить, из Балха пришло известие, что изморенный голодом город сдался Шейбани-хану и узбеки, по образному выражению историка того времени, «начисто вымели его метлою потока и разграбления». Как только Шейбани-хан узнал, что все эмиры Хорасана, опираясь на помощь Бабура, готовятся вступить с ним в бой, незамедлительно переправил свою армию через Амударью и поспешным маршем направил ее на зимовку домой, в Мавераннахр.
Безусловно, это был прекрасный случай для противников Шейбани-хана выступить мощными объединенными силами против узбеков. Используя сильные армии, собранные под знаменами обоих принцев, им следовало продолжить поход против Шейбани и, возможно, вести войну уже на территории Мавераннахра, – это был их шанс, но они его упустили. Бабур и эмиры вернулись с войсками каждый в свое владение, а оба государя – в Герат. Одним словом, чагатайские эмиры оказались недальновидными, а стоявшие во главе их две фигуры последних темуридов – безвольными.
Тем временем поставивший себе целью захватить наследие Амира Темура Шейбани-хан по-прежнему инициативу держал в своих руках. В мае 1507 г. Герат получил известие, что армия Шейбани вступила в пределы Хорасана. Это обстоятельство вызвало полную растерянность в правящих кругах столицы, поскольку ничего не было готово к отпору узбеков. И вот тогда, как отмечают некоторые источники, у мусульман появился фаталистический взгляд на всю эту ситуацию: «…предопределенного причиною всех причин никакие человеческие силы предотвратить не могут, что волею неумолимого рока мера жизни дома Темура исполнилась и Хорасану суждено перейти в другие руки», поэтому никакие мероприятия эмиров и государей против этого не принесут пользы.
Посему город Андхуд был отдан Шейбани-хану с восточным подобострастием, Бадже – также. Путь на Герат был открыт. Седьмого мая узбекские авангарды появились на подступах к столице. Для принцев-темуридов этот факт был как гром среди ясного неба. Спешным порядком они выслали против узбеков войска, которые находились в крепости, что было равносильно, по мнению историка-очевидца, попытке «преградить стремительное течение большой реки броском горсти влажной земли». Конечно же гератские войска были разбиты. И когда подошли главные силы узбеков во главе с самим Шейбани-ханом, великолепная столица выдающегося темурида Султан-Хусейн-мирзы лежала у его ног совершенно беззащитной. Эмиры ретировались по разным городам, войска разбежались. Бадиуз-Земан-мирза направился в Кандагар. Его брат, Музаффар-Хусейн-мирза, простившись с семьей, спешно бежал из своей столицы на запад, в Астрабад.
Оставшиеся в городе сановники и духовенство пришли к логическому заключению о необходимости выразить покорность победителю. В тот же день с письмом к Шейбани-хану был отправлен переговорщик. Как только он выехал за ворота города, узбеки, находившиеся у стен крепости, отобрали у него лошадь, раздели донага и в таком виде доставили его к Шейбани-хану. Последний, ознакомившись с петицией гератцев, объявил себя полновластным распорядителем доставшейся ему империи темуридов. А гератцы, заперев ворота своих домов, в страхе ожидали участи. И в своем ожидании худшего они не ошиблись: «Многие знатные и именитые люди испытали крайние унижения, вопли больших и малых неслись до самого неба, а гаремные красавицы уважаемых семей становились пленницами узбекских солдат и пребывали во всевозможных мучениях, с челом Венеры, целомудренные девицы влеклись за свирепыми, как Марс, монголами по улицам Герата и ни минуты не находили от них покоя».
Тем не менее Шейбани-хан пригласил знатных людей города к себе в ставку. Когда представители гератцев прибыли к Шейбани-хану, их с почетом встретили ханские сановники, отвели в одну из палаток и известили Шейбани-хана об их прибытии. Хан ответил, что он их примет после того, когда они представят ему известную сумму денег «за пощаду» и поднесут соответствующие подарки. Размеры контрибуции были таковы: с простонародья – 100 тыс. одномискальных тангачей (тангача равнялась 6 копекских динарам), от знати – лично Шейбани-хану – 20 тыс. тангачей и 15 тыс. – первому министру хана, кстати, пользовавшемуся его безграничным доверием.
После выполнения всех условий Шейбанихан принял гератскую знать. Также в ставку были вытребованы все женщины и девушки гаремов. Особенно хану понравилась жена Музаффар-Хусейна, племянница Султан-Хусейна, Михранид-бегим, на которой хан немедля женился. Своего же племянника, Убайдуллу-султана он женил на дочери Музаффар-Хусейна. Все ценности представителей династии темуридов пополнили казну Шейбани-хана.
27 мая 1507 г. в большой соборной мечети Герата была прочитана хутба с поминовением Абулхайр-хана и «имама времени и наместника всемилостивого» Мухаммеда Шейбани-хана. Любопытно, что Шейбани-хан, «побуждаемый высокими замыслами», отдал приказ о чеканке тангачи на полтанга больше, чем это было в темуридских тангачах, и с указанием, что когда новая монета «украсится выбитием на ней его августейшего имени», то она должна ходить за 6 копекских динаров, а тангачи прежнего темуридского чекана должны обращаться из расчета 5 копекских динаров.
Шейбани отныне мог считать себя полновластным распорядителем судеб всех обширных владений темуридов, самые же роскошные столицы которых – Бухара и Самарканд уже были его достоянием. Теперь предстояло докончить немногое – подчинить себе западную часть Хорасана, где еще оставались темуридские принцы и их эмиры.
Безуспешны были попытки военных сил темуридов остановить движение неприятеля. В этих войнах показали недюжинные способности узбекские полководцы: сын Шейбани – Тимур-султан, а также его племянник – Убайдулла-султан, сын его брата, преданного и неразлучного спутника всей жизни Махмуд-султана. На долю этих молодых полководцев и выпала задача завоевания Западного Хорасана, которую они успешно осуществили. Следует отметить, что узбекских принцев называли «султанами», в отличие от темуридских царевичей, именовавшихся «мирзами».
Итак, Шейбани, назначив в захваченные области своих наместников, главным образом из приближенных эмиров и узбекских принцев, отправился в Мавераннахр. Бухара устроила пышную встречу торжествующему победителю, который, не задерживаясь в этом городе, отправился в свою столицу Самарканд, где и провел зиму. Весной следующего года до Шейбани дошли слухи, что в Астрабадской области укрылись два последних гератских государя. В этом деле следовало ставить точку, и Шейбани-хан, мобилизовав свое войско, двинул его к Астрабаду. Прослышав о приближении мощной узбекской армии, Бадиуз-Земан-мирза бежал в Азербайджан, чтобы позже умереть в Константинополе, а Музаф фар-Хусейн-мирза умер еще до прихода Шейбани.
При минимальных потерях своих воинов Шейбани присоединил Астрабад и Гурган. Теперь он становился властелином обширной империи, простиравшейся от Каспийского моря до пределов Китая и от Сырдарьинского правобережья до центрального Афганистана. Он утвердил вершину своего единовластия над этими богатыми и огромными землями, увенчанный пышным титулом светского и духовного главы империи «имам-уз-заман уа халифат ур-Рахман». Это важный момент, и мы поясним значение этого религиозного титула, принятого Шейбани-ханом. Титул, несомненно, имел глубокий смысл и большое значение среди того противостояния религиозных воззрений, которое резко наметилось к приходу Шейбани-хана и в Средней Азии и в соседнем Иране. Если, с точки зрения потомка Чингисхана в шестом поколении, Шейбани-хана, Амир Темур и темуриды, как не чингисиды, являлись узурпаторами власти потомственных чингисидов в бывшем улусе Чагатая, то и их религиозные воззрения были неправоверны, ибо были окрашены, якобы, официальным шиизмом, хотя вопрос о религиозных воззрениях Амира Темура вызывал споры уже в эпоху его великих завоеваний. Он был выходцем из области сильного суннитского влияния, даже использовал необходимость защищать суннизм как предлог для походов против властителей-шиитов. Однако Амир Темур считал себя алидом, и в этом убеждает нас генеалогическая схема, изображенная на надгробной плите Амира Темура в Самарканде, то же самое можно отметить на надгробиях его сына Мироншаха и любимого внука Мухам мед-Султана. И все-таки в государстве Амира Темура шиитские симпатии были слишком заметны: так, в Герате, при Шахрухе, проживал известный поэт Касым-и-Энвар (ум. в 1437 г.), исповедовавший столь крайние рационалистические идеи, что великий таджикский поэт Джами (ум. в 1492 г.) замечает про виденных и слышанных им его учеников, что «большинство их вышло из ярма религии ислама». Это не мешало, однако, Касым-и-Энвару иметь в Герате и его районах множество последователей из знати и простонародия.