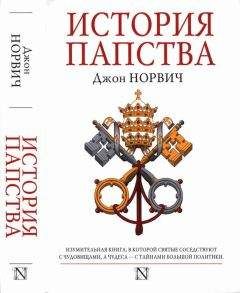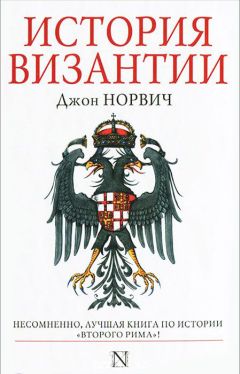Джон Норвич - История Венецианской республики
Существует (во всяком случае должен существовать) политический закон, согласно которому степень свободы и демократии, являемая государством в действительности, обратно пропорциональна силе и громкости, с которой об этом заявляется. Так называемое демократическое правительство, на восемь месяцев захватившее власть в Венеции, ничего демократического собой не представляло. Шестьдесят членов муниципалитета даже не пытались получить что-нибудь вроде народных мандатов. Они назначались французским поверенным Вийетаром, народ Венеции никто не спрашивал ни перед назначением, ни после. За свою короткую жизнь правительство так и не увидело выборов. После 17 октября, когда Бонапарт в Кампо Формио вероломно отдал город вместе с Истрией и Далмацией Австрии, о выборах уже не было и речи.
Австрия официально вступила во владение Венецией 18 января 1798 года. Впрочем, владеть ей пришлось недолго. В 1805 году, после битвы при Аустерлице, Наполеон отнял ее обратно и включил в свое новое Итальянское королевство. Однако всего через 10 лет Венский конгресс вернул ее вместе с окрестностями и Ломбардией под власть Габсбургов. Она оставалась австрийской (не считая 17 героических, отчаянных месяцев в 1848–1849 годах, когда венецианцы подняли вооруженное восстание против угнетателей и провозгласили новую, независимую республику) до 1866 года, когда имперскую армию разбила прусская при деревне Садовой. Тогда и только тогда было позволено Венеции занять место в объединенной Кавуром Италии.
Однако цель этой книги — рассказать о светлейшей республике, а история о ней завершена. Конечно, было бы куда приятнее, если бы конец ее не оказался таким позорным. Повторю, как эхо, жалобу, прозвучавшую в начале третьей части. История редко ведет себя так, как хотелось бы историку, даже если, читая хроники погибающей республики, он хорошо представляет, как изменить события, чтобы они обернулись более благоприятно. К примеру, если бы сильный лидер, подобный Энрико Дандоло, Франческо Фоскари или Леонардо Дона, смог собрать силы венецианцев, они устояли бы против Бонапарта. Если бы летом 1796 года Венеция могла выставить хорошо оснащенную армию, приблизительно в 25 000 человек, под командованием опытного генерала, то вместе с Австрией — а им помогли бы еще короли Неаполя и Сардинии — ситуацию почти наверняка можно было бы спасти и выставить французов из Италии.
Увы, ничего этого не случилось, но, несмотря на это, рассказ мог и не быть таким мрачным. Венецианцы могли понять, что республика гибнет, могли вспыхнуть те искры отваги и стойкости, которые разгорались, когда колонии защищали от турок, или позже, когда внуки этих героев, столетие спустя, восстали против Австрии. Вспомним героическую защиту стен Константинополя — яркую вспышку древнего венецианского духа, который светлейшая гордо несла через века. Но не случилось и этого. Истинная трагедия Венеции заключалась не в гибели ее, но в том, как она погибла.
Про Лодовико Манина можно сказать только, что этот унылый, беспомощный человек довел республику до гибели. Но своей малодушной капитуляцией он хотя бы уберег свой город от разрушения. Если бы французская артиллерия открыла огонь со своих позиций, если бы французские корабли вошли в лагуну и начали обстрел с моря, трудно представить себе, чем бы это закончилось. И так многое погибло. Используя фальшивый предлог,[331] Бонапарт приказал собрать картины, скульптуры, манускрипты, церковную утварь и все ценные произведения искусства, которые обнаружат специально назначенные комиссионеры, даже бронзовых коней с собора Святого Марка увезли в Париж, чтобы украсить ими арку Карузель перед дворцом Тюильри. Как мы знаем, этих коней позже вернули на галерею собора Сан Марко.[332] Но большая часть трофеев попала в Лувр, да там и осталась: огромная картина Веронезе «Свадьба в Кане Галилейской» из трапезной Сан Джорджо Маджоре и его центральная панель с потолка зала Совета десяти, из Дворца дожей. Мы можем только поблагодарить Наполеона за то, что он, как это ни странно, сам в Венеции не появился. Сделай он это, его приспешники подошли бы к процессу с той же тщательностью, какую они проявили в других городах. Венецию омрачила только тень того опустошения, которое ей грозило.
Независимо от нашего мнения о том, могла ли Венеция спастись с помощью смелого, решительного и умного лидера, мы можем подивиться, что она продержалась так долго. Ее не сломил ни один из трех величайших ударов, которые она на своем веку испытала: открытие пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды в 1499 году, постоянный в течение двух столетий напор турецкой мощи, сломившей в 1453 году Константинополь, и война против почти всех сил Европы, объединенных Камбрейской лигой. Причиной падения Венеции мог стать каждый из них. Пережить все три казалось просто чудом.
Однако с начала XVI века упадок начал набирать силу. Поначалу его декорировали громкие победы и достижения, но со временем дым рассеялся, краски выцвели, и оказалось, что победы призрачны, а великая веха переломного момента оказалась порогом перед обрывом в пропасть. Прославленная победа над турками при Лепанто в 1571 году не дала вообще ничего, пелопоннесских завоеваний Франческо Морозини в 1685 году хватило едва на тридцать лет, торжественные празднества в честь побед Анджело Эмо над итальянскими пиратами 70-80-х годов XVIII века доказали только, как нуждались венецианцы в победе и как низко склонились их знамена.
Стал очевиден еще один факт. Хотя культурная жизнь города переживала расцвет, хотя экономика показывала подъемы и спады, политическая сущность республики находилась при смерти. Конституция, которая хранила республику, оберегала ее власть так долго, как ни в одном государстве мира, под конец потеряла свою гибкость. Например, степень влияния Андреа Трона, который на протяжении целого поколения был почти диктатором Венеции, заслужив это положение только личными качествами, была бы немыслима в прежние времена, когда венецианцы соблюдали главный принцип — слишком много власти не должно оказываться в одних руках. Даже после смерти Трона Паоло Реньер и его друзья пытались править с помощью полуофициальных маленьких групп и обществ, участники которых время от времени продвигали нужные решения в коллегии и других инстанциях. Но срок их службы заканчивался, и они теряли влияние. Как бы эту систему ни ругали, она работала не только при слабом правительстве. В твердых руках она помогала быстрее принимать решения и более четко действовать в критический момент. Но в руках посредственности она не могла не истощить жизненные силы государства, лишив его способности сопротивляться идеологической и военной угрозе, которую несла философия революции в лице Наполеона Бонапарта. Таким образом, как бы ни был могуч Бонапарт, нельзя свалить всю вину за падение Венеции на него одного. Он лишь нанес удар милосердия обреченной светлейшей республике. Истощенная, деморализованная, неспособная сосуществовать с изменившимся миром, она, как ни печально, просто потеряла волю к жизни.
Ее смерть никто не оплакивал, кроме собственных жителей, да и то не всех. При содействии всей Европы и даже всей остальной Италии, она пала без единого союзника. Дилетанты восхищались ее красотой, либертины слетались к ее наслаждениям, но вряд ли кто-то из иностранцев любил ее саму по себе. В этом нет ничего удивительного и ничего нового. Она не слишком была любима миром. В дни величия ее непопулярность порождалась завистью — к ее богатству, мощи, удобному географическому расположению, защищавшему ее от нападений. Но это еще не все. Соотечественники итальянцы считали жителей Венеции спесивыми и властными. Ее купцы, хоть и не были мошенниками, получали неприлично высокие прибыли. Ее дипломаты были вежливы, но как-то всегда немного зловещи. Ее народу всегда не хватало душевности и страсти. По ним никогда не понять, нравится им что-то или нет. Короче говоря, холодны, как рыбы.
Вот такая у венецианцев была репутация, и не во всем она была несправедливой. А вот за что их обвиняли несправедливо — и до сих пор это делают, — так это за способ управления, который они себе выбрали. Больше полутысячи лет Венеция считалась полицейским государством, тиранической олигархией, где могли арестовать без обвинения, бросить в тюрьму без суда и осудить без вины. Государством, жители которого, за исключением избранных, не допускаются к управлению, несвободны в речах и в делах. Всем читателям этой книги давно должно быть ясно, что такие мысли сильно расходились с реальностью. Если Венеция и была олигархией, то ее основой был Большой совет, насчитывавший часто больше двух тысяч членов. В его кругу к демократическим принципам относились почти со священным трепетом, за исключением последних десятилетий. Ни в одной другой европейской стране о таком не могли ни думать, ни мечтать. Дожам далеко было до тиранов — любой европейский правитель пользовался большей властью, чем они, их власть существовала только с одобрения выборных советов и комитетов, чей состав постоянно менялся. Любые амбиции в таких условиях будут тщетны.