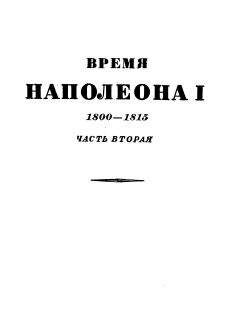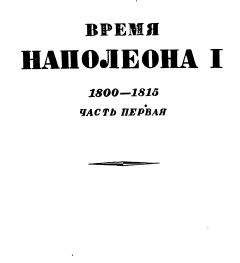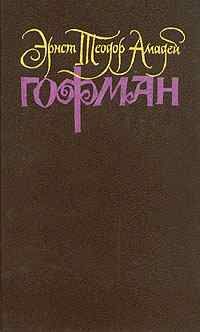Эрнест Лависс - Том 4. Время реакции и конситуционные монархии. 1815-1847. Часть вторая
ГЛАВА III. ГЕРМАНИЯ. 1815–1847
[19]
I. Германский союзДаже после Люневильского, Пресбургского и Венского договоров политическая география Германии оставалась чрезвычайно сложной. Между отдельными государствами наблюдалось крайнее Неравенство сил; некоторые области, например Тюрингия, своей раздробленностью все еще превосходили Швейцарию; сложность границ, значительное количество чересполосных территорий, противоречивые права и притязания, возникавшие вследствие перехода земель по праву наследования или благодаря бракам, еще более увеличивали общую путаницу. Наполеон создал ряд государственных организмов, слишком слабых для самостоятельной жизни; Бавария — единственное государство, которому географическое положение и история позволяли вести настоящую международную политику, вышла из кризиса 1814 года ослабленной, без точно определенных границ и скомпрометированной в своих отношениях с Францией присоединением рейнской Баварии. Желания прочих мелких государей, если не считать кое-каких минутных поползновений, не шли дальше сохранения status quo. Слишком слабые, чтобы противопоставить непреодолимую преграду опасной алчности тех, кого искушала их беззащитность, слишком недоверчивые, чтобы заключить между собой прочный союз, разлученные с Францией, своей естественной покровительницей, в силу свежих воспоминаний, эти государства в общем находили в Германском союзе условия, наиболее соответствовавшие их стремлениям.
Федеральная конституция, торжественно признававшая «независимость и неприкосновенность» владений всех этих мелких государств и их прав и имевшая целью лишь «обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность Германии», отнюдь не ограничивала их верховных прав. Основные законы могли быть изменены лишь общим собранием, Plenum'ом, где каждое государство располагало одним или несколькими голосами, но где большинство нельзя было образовать без участия мелких государей. Для обыкновенных собраний, рассматривавших текущие вопросы, члены союза (федерации) были сгруппированы в семнадцать курий, из коих каждая располагала одним голосом. К тому же союзный совет, как в старой Германской империи, представлял собой не державный парламент, а дипломатическую конференцию, где делегаты, прежде чем подать голос, сносились со своими государями, так что стоило одному двору задержать ответ, и неугодное ему решение не могло быть принято. Из чрезмерной предусмотрительности первые одиннадцать статей федеральной конституции были заключительный акт Венского конгресса и тем поставление под гарантию держав, без согласия которых они отныне не могли быть изменены.
Хотя впоследствии Германский союз подвергался нападкам, все же он довольно хорошо отвечал нуждам момента: при этом режиме Германия в течение полувека пользовалась глубоким миром, благодаря которому ее материальное благосостояние быстро развивалось. Этот рост народного богатства и обусловленное им все более сильное влияние средних классов пробудили стремление к политической реформе; конституция 1815 года, бывшая сначала эгидой, сделалась теперь преградой, и общественное мнение требовало нового режима, который, обеспечив Германии большую свободу действий, усилил бы ее международное влияние и содействовал бы распространению ее идей, ее торговли и промышленности.
В 1815 году о создании Германской империи мечтала лишь горсточка молодых людей, студентов и профессоров да несколько медиатизированных магнатов[20], желавших увлечь за собой и тех государей, которые их ограбили. Общественное мнение, которое они призывали на помощь, не желало слышать их призывов; прусский король, которому они прокладывали путь к величию, скептически относился к их смелым замыслам; у них не было ни определенного плана, точной программы действий, и только нелепый страх германских правительств придавал кое-какую серьезность их настроениям, в которых минувшее причудливо сплеталось с грядущим. В их оппозиции союзному совету было больше шума, чем толка. Но не здесь, не в этой шумной и бесплодной оппозиции, а в материальном развитии страны, в преобразовании Пруссии, в создании таможенного союза, а также в различных умственных движениях, последовательно овладевавших обществом, был подлинный исторический интерес эпохи.
Торжество романтизма. Политические теории. Поражение Наполеона повлекло за собой полное крушение рационалистических доктрин; все, что напоминало Францию и философию XVIII века, теперь осмеивается и подвергается гонениям. Как обыкновенно бывает, в ту минуту, когда выдохшаяся романтическая школа была представлена уже только эпигонами, несколько смущенными своей победой, ее авторитет казался неоспоримым — отчасти благодаря влиянию, которое приобрели ее идеи во Франции и Англии. Гёте с некоторым скептицизмом смотрел на шумное торжество теорий, красноречивым защитником которых он сам некогда был, и, сделав не совсем удачную попытку в своем Пробуждении Эпименида оправдать необычайную сдержанность и холодность, обнаруженные им во время войн за независимость, стал искать отвлечения в своих воспоминаниях и в поэзии восточных народов (Итальянское путешествие, 1816; Западный диван, 1819) и вместе с тем работал над второй частью Фауста, вышедшей лишь после его смерти, — произведением, лишенным внутренней стройности, тяжеловесным и неуверенным, но обнаруживающим порою великий талант замечательного поэта.
Романтики, ревностно распространявшие его славу, больше восхищались им, чем понимали его. Под предлогом необходимости отстаивать против учения энциклопедистов права чувства и воображения, они ударились в какой-то неистовый лиризм, признававший единственным правилом каприз художника, и перенесли в литературу философию Фихте, согласно которой мир есть не более как раскрытие своего «я». Несмотря на то, что многие из романтиков были богато одарены от природы, их талант был очень скоро загублен крайностями их учения; их странные, беспорядочные, туманные произведения, которых не спасали от забвения даже встречающиеся в них замечательные красоты, вызывали скуку у публики и повергали в уныние и недовольство самих авторов. И одни, как Тик, которого большинство признавало тогда главой школы, «нашли убежище в критике», или, как Ахим фон Арним, будучи неспособны на продолжительные усилия, бросили неоконченными начатые с любовью произведения; другие, как Брентано, из задора и слабости умышленно доводили до крайности свое направление и своими чудовищными и ребяческими выдумками отталкивали самых верных своих читателей. Рядом с Тиком, Арнимом и Брентано более искусно, нежели убежденно, следовали устаревшей моде Шамиссо, прославившийся своим Петром Шлемилем, Фуке, Ундину которого хвалят доныне, Эйхендорф и их соратники. Гофман, наиболее популярный из тогдашних писателей, чьи Фантастические рассказы так много переводились и вызывали столько подражаний и чье влияние за границей, особенно во Франции, было если не глубже, то по крайней мере нагляднее, чем влияние Гёте и Тика, является последним плодом болезненной литературы и разлагающейся школы.
Эстетика и философия романтиков психологически предрасполагала их к пониманию средних веков. Их пристрастия и антипатии были частью* законны, их поход против классицизма — прямо необходим. Они не только развили вкус общества, обратили его внимание на произведения, оставленные нам христианской Европой, но главное — ив этом их наибольшая заслуга — именно они выработали правильное историческое понимание, заявив протест против шаблонных взглядов, во имя которых жизнь человечества сводилась лишь к нескольким векам[21]. К несчастью, вместо того чтобы видеть в средневековье крайне интересную, но уже пройденную стадию мировой цивилизации, они вздумали реставрировать его; оплакивая раскол, нарушивший в XVI веке единство католического мира, и желая возродить веру, они мечтали с этой целью восстановить владвшество папы и вернуть дворянству его привилегии, государям — их неограниченную власть. Таким образом они сделались — сначала, правда, бессознательными — сообщниками политической реакции; их дилетантизм подготовлял путь для Меттерниха.
Подобно писателям, тогдашние художники: Овербек — вождь Назареян, весь клан Живописцев св. Исидора — Ф. Вейт, Вильгельм Шадов, Фюрих, Шраудольф, Гесс и их многочисленная свита — вводят нас в искусственный и старомодный мир, где в меланхолической светотени дрожат бледные видения их переутомленных мыслей. Их анемичные фрески й громадные философские полотна дышат нестерпимой скукой, и основной ошибки их теорий не могут искупить ни благородство их усилий, ни нарочитая и натянутая возвышенность их чувств.
Так же мало истинной оригинальности и силы у политиков-теоретиков. Большинство из них дебютировало на литературном поприще, и поскольку они не служат исключительно низменным личным интересам, они и в политике остаются чистыми литераторами. Рядом с Гентцем, который раньше заботился только о сохранении правильного равновесия между прогрессом и традицией, а теперь, «став ужасно старым и озлобленным», отдавал весь свой сильный и гибкий талант на службу «пошлейшему обскурантизму», Фридрих Шлегель и Антон Пилат громят проклятиями всякую попытку искания и критики, а Адам Мюллер, суеверно ненавидя «конституционное безумие», ставит себе задачей стереть в порошок учение Адама Смита. Главой школы был Галлер, автор Реставрирования политической науки. Это произведение сделалось тогда катехизисом всей немецкой консервативной школы. Узкий и пошлый ум бернского аристократа был вдобавок озлоблен изгнанием; для Германии Канта, Фихте и Гёте он ставил идеалом возвращение к феодальному строю, где государство дробилось бы на множество абсолютистских по форме правления и бессильных мелких государств.