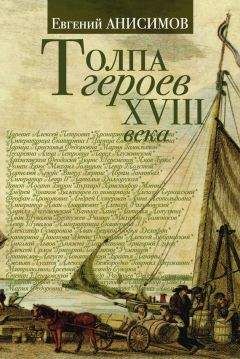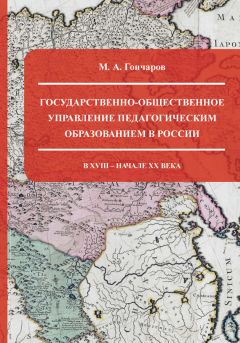Евгений Анисимов - Русская пытка. Политический сыск в России XVIII века
Почти во всех указах об извете подтверждалось, что изветчика ждет награда. Так было принято с давних пор. В случаях исключительных, связанных с раскрытием важного государственного преступления, сумма награды резко увеличивалась. Доносчик мог получить свободу (если он был крепостной или арестант), конфискованное поместье преступника, различные торговые льготы и привилегии. Обычно чиновники сыска исходили из сложившейся наградной практики, в случаях неординарных награду устанавливал сам государь.
«Ложный извет» («недельный», «бездельный») появился одновременно с «правым» изветом. Типичный пример. В 1730 году арестовывали набедокурившего солдата Пузанова, он «повалился на землю» и сказал, что «есть за ним Ея и. в. слово и дело». На следствии же оказалось, что никакого «Слова и дела» за ним нет и не было. Это и был «ложный извет». К ложному извету часто прибегали матерые преступники, которые пытались с помощью «бездельного», надуманного извета затянуть расследование их преступлений или увильнуть от неминуемой казни. Кричали «Слово и дело» и те, кто думал таким образом избежать наказания за какое-нибудь мелкое преступление. Кроме того, люди шли на ложный извет и для того, чтобы добиться хотя бы какого-нибудь решения своего дела, настоять на его пересмотре, привлечь к себе внимание.
ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
В 1697 году в Кремле «закричал мужик караул и сказал за собой Государево слово». Это был первый русский воздухоплаватель, который на допросе сказал, что, сделав крылья, «станет летать, как журавль», и поэтому просил денег на изготовление слюдяных крыльев. Однако испытание летательного аппарата в присутствии боярина князя И. Б. Троекурова закончилось неудачей, и «тот мужик бил челом», сказал, что слюдяные крылья тяжелы и нужно сделать кожаные, но «и на тех не полетел», за что его били батогами, а потом в счет потраченных на его замысел денег отписали в казну его имущество.
«Дурной извет» во время ссор, драк, побоев был весьма част. Следователи довольно быстро определяли, что за сказанным под пьяную руку изветом ничего не стоит. Протрезвевший гуляка или драчун с ужасом узнавал, что он арестован как изветчик важного государственного преступления. Два монаха – Макарий и Адриан – были посажены за пьянство на цепь и тут же объявили друг на друга «Слово и дело». Утром, протрезвев, они не могли вспомнить, о чем, собственно, собирались донести. Также не мог вспомнить своих слов пьяный беглый солдат, кричавший «Слово и дело» на подравшихся с ним матросов. А между тем кричал он о страшных вещах: матросы-де несколько лет назад хотели убить Петра I. Иногда в роковом крике видны признаки душевной болезни, невменяемости, белой горячки.
Даже явно «бездельные» изветы игнорировать было нельзя. Если приговоренный к казни на эшафоте кричал «Слово и дело», его уводили обратно в тюрьму и начинали расследование по его извету. В этот момент закон был на его стороне – ведь изветчик мог унести в могилу важные сведения о нераскрытом государственном преступлении. В итоге у приговоренного к смерти появлялась порой призрачная возможность с помощью извета оттянуть на некоторое время казнь. Иногда же за счет доноса на другого, подчас невинного человека преступник-изветчик стремился спасти свою жизнь, облегчить свою участь.
ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
Одним из самых известных случаев извета перед казнью стало объявление «Слова и дела» братом Степана Разина Фролом у эшафота в день казни 6 июня 1671 года. Как писал иностранный наблюдатель, Фрол, «придя на место казни, крикнул, что знает он Слово государево… Когда спросили, что он имеет сказать, Фролка ответил, что про то никому нельзя сказать, кроме государя. По той причине казнь отложили, и есть слух, будто открыл он место, где брат его, Стенька, зарыл в землю клад». На самом деле Фрол утверждал, что на предварительном следствии он якобы запамятовал о спрятанных в засмоленном кувшине «воровских письмах» Степана Разина на острове посредине Дона, под вербой, «а та верба крива посередке». Выдумка эта помогла оттянуть казнь на пять лет – Фрола Разина казнили лишь весной 1676 года.
В 1728 году дьячок Иван Гурьев, сидевший в тюрьме в ожидании отправки на сибирскую каторгу, донес о «важном деле» на своего сокамерника – бывшего дьякона – и как доказательство предъявил письмо, якобы выпавшее из одежды дьякона. Письмо это было оценено как «возмутительное воровское». Но следователи легко установили, что дьячок попросил дьякона написать несколько вполне нейтральных строк на листе бумаги, к которому затем подклеил им самим же написанные «возмутительные» слова. Приговор дьячку был суров: за написание «воровского злоумышленного возмутительного письма» и за то, что он «желал тем воровским умыслом привесть постороннего невинно к смертной казни… казнить смертью – четвертовать».
Ложное доносительство было широко распространено, да и немудрено: борясь с ложными доносами, государство активно поощряло доносы вообще. В XVIII веке доносы оставались самым надежным «инструментом» контроля за исполнением законов. Доносчики извещали обо всем: о воровстве и разбое, об утаенных во время переписи душах, о нарушителях монополии на юфть, щетину, соль, о торговцах золотом в неположенных местах, о тайных продавцах ядов, о контрабандистах и т. д.
В 1720-е годы, когда государство, разоренное длительной Северной войной, отчаянно нуждалось в деньгах, возросло количество доносов, авторы которых ловко отзывались на злобу дня. Перед следователями являлись доносчики, готовые тотчас провести к тем местам, где закопаны клады Александра Македонского и Дария Персидского, сокровища разбойника Кудеяра, где стоят лишь присыпанные землей чаны с золотом и серебром, которые сразу же обогатят пустую казну. Если такой «рудознатец» говорил: «Мне явися ангел Божий во сне и, водя мя, показуя мне место», то, как с ним поступать, знали даже канцелярские сторожа – в монастырь, «до исправления ума». Иначе обстояло дело с ворами, которые под пытками или перед казнью, вместо того чтобы покаяться, кричали «Слово и дело» и порой даже предъявляли образцы какой-то породы, утверждая, что это и есть найденное ими серебро, столь нужное Отечеству. Такого человека власти боялись без допроса отправить на тот свет. Но проходимцев было так много, что в 1724 году Сенат указом запретил верить рудознатцам, которые объявляли о своих открытиях только тогда, когда их ловили на воровстве или забривали в рекруты, о подлинных же находках руд следовало доносить «заблаговременно, без всякой утайки».
Недоносительство в XVIII веке оставалось тяжким государственным преступлением, которое каралось более сурово, чем ложный извет. Согласно законам, неизветчик признавался фактически соучастником государственного преступления. В указе 1711 года о неизветчиках, знавших о фальшивомонетчиках, было сказано, что им «будет тож, что и тем воровским денежным мастерам». Обычно фальшивомонетчикам заливали горло расплавленным металлом.
Угрозы не оставались на бумаге. Приговоры сыска были страшны и подводили неизветчика под кнут, к ссылке на каторгу и даже к смертной казни. Новгородский священник Игнатий Иванов по указу Петра I был казнен в 1724 году за недонесение слышанных им «непристойных слов». Многие участники дела царевича Алексея были жестоко наказаны за то, что не донесли о намерениях наследника престола бежать за границу. Одиннадцать священнослужителей Суздаля обвинили в недонесении и подвергли суровому наказанию: ведь они часто видели, что бывшая царица Евдокия – старица Елена, сбросив монашескую одежду, ходила в светском одеянии, но не сообщили об этом куда надлежит.
На следствии в Тайной канцелярии довольно быстро выявлялся круг людей, которые знали, но не донесли о государственном преступлении, и они не могли ожидать от властей пощады. Страх оказаться неизветчиком гнал людей доносить друг на друга.
ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
Посадский Матвей Короткий в 1721 году поспешил с доносом на своего зятя Петра Раева потому, что о его пьяных «непотребных» словах рассказал ему их холоп. Короткий испугался, что холоп донесет первым, а он в этом случае окажется неизветчиком.
В мае 1735 года Павел Михалкин, «отважа себя», подошел к часовому гвардейцу, стоявшему у Зимнего дворца, и объявил «Слово и дело», а затем донес на нескольких человек, обсуждавших в тесной компании сплетню о Бироне, который с императрицей Анной «телесно живет». Михалкин пояснил, что он донес из-за опасения, как бы «из вышеписанных людей кто, кроме ево, о том не донес».
25 декабря 1736 года – в Рождество – на рынок «для гуляния» шли четверо друзей, учеников кронштадтской гарнизонной школы: Иван Бекренев, Филипп Бобышев (им было по 14 лет), Савелий Жбанов (15 лет) и Иван Королев (13 лет). В общем разговоре один из них, Бобышев, позволил себе неприличное высказывание о принцессе Анне Леопольдовне (племяннице императрицы Анны), в том смысле, что она недурна собой и что ей, наверное, «хочетца». После этого, согласно записи в протоколе Тайной канцелярии, между приятелями произошел следующий разговор. Бекренев «сказал Жбанову: "Слушай, что оной Бобышев говорит!", и означенной Жбанов ему, Ивану, говорил: "Я слышу и в том не запрусь, и буду свидетелем" и [сказал] чтоб он, Иван, о том объявил, а ежели о тех словах не объявит, и о том, он [сам], Жбанов, на него, Ивана, донесет». После этого Бекренев пошел доносить на товарища.