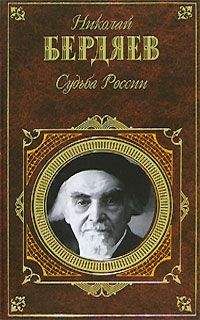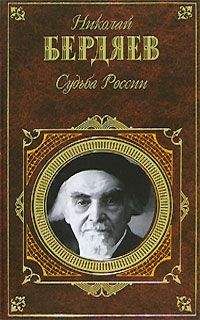Евгений Тарле - Бородино
Тут вполне естественно коснуться и другого вопроса, тесно связанного с выдуманной легендой о том, будто русские были совсем разбиты, когда они отошли от Курганной высоты и люнета Раевского. Если бы это было так, то уж просто было бы непонятно, почему не русские прервали битву, а прервал ее именно сам Наполеон. Они отошли очень недалеко и, невзирая на потери и ужас пережитого, сохраняли и полный порядок, и дисциплину, и боеспособность, и по-прежнему были преисполнены гнева, мести и готовы были продолжать. Но Наполеон и все без исключения маршалы сочли за благо отказаться от мысли сейчас же после взятия люнета повести новую большую уничтожительную атаку против отошедших, однако очень скоро приостановивших свое отступление русских. Разве когда-либо в долгой военной карьере Наполеона случалось, чтобы он вдруг, по своему желанию и решению, прервал битву, которую всерьез считал бы выигранной? Ведь кто, как не он, неоднократно ставил на вид своим генералам, что победа, не довершенная преследованием разбитого врага, не есть победа, и что сам он выиграл имевшее неизгладимые последствия сражение под Маренго 14 июня 1800 г. только потому, что в те самые часы, когда Вена была уже иллюминована по случаю прибытия курьера с известием об австрийской «победе», Бонапарт оставался на. поле боя и, дождавшись подкрепления, вконец разгромил австрийцев.
Почти тотчас же после отхода от Курганной батареи и устройства русских сил на новом месте загремела русская артиллерия. Нужно заметить, что смерть Кутайсова, молодого, предприимчивого, храброго военачальника, которому Кутузов доверил распоряжение всей артиллерией, по свидетельству участников боя, не дала развернуться артиллерии во всю мощь. Но во всяком случае эти последние часы Бородинского сражения нисколько не подтверждают свидетельств, безмерно преувеличивающих значение смерти Кутайсова. Трудно представить себе более великолепный образец артиллерийского боя, чем действия русской артиллерии от занятия французами люнета на Курганной высоте (батареи Раевского) вплоть до девяти часов. Французская артиллерия была вынуждена просить подмогу, и начальник императорского штаба князь Невшательский (маршал Бертье) принужден был дать значительную часть орудий из гвардейских резервов. Бертье сделал это очень неохотно. Правда, на этот раз Наполеон никаких слов о «последнем резерве» не говорил, а просто объяснил, зачем ему нужно сохранить резервы: чтобы пустить их в ход для «решительного сражения», которое, как заявил Наполеон, Кутузов даст французам под Москвой. Граф Матье Дюма, генерал-интендант армии, вел этот разговор с императором именно уже вечером. Но так как русская артиллерия, ничуть не щадя снарядов, продолжала нещадно громить французские позиции, то волей-неволей приходилось отстреливаться. Мало того, стрельба с русских батарей становилась все оживленнее. Произошла при этой неутешительной для французов обстановке неприятная беседа между вице-королем Евгением и Бертье (Наполеон был уже далеко). Евгений решительно требовал новых и новых подкреплений из гвардейских артиллерийских запасов, а Бертье долго не давал, но все-таки вынужден был уступить.
Наполеоновские генералы, штабные офицеры, унтер-офицеры - люди, среди которых были побывавшие и в битве под пирамидами, и под Акрой, и под Маренго, и под Аустерлицем, и под Иеной, и в трехдневном побоище под Ваграмом, и в неслыханной по кровопролитию бойне под Прейсиш-Эйлау, и под Фридландом, утверждали, что глаза их не видели никогда ничего более ужасного, чем Бородинское сражение. Больше всего их поражало полнейшее презрение к смерти и неистовое ожесточение русских солдат. Это ожесточение нисколько не уменьшилось после окончания кровопролития. «По свидетельству неприятеля, (писал Михайловский-Данилевский) наши пленные были ужасно раздражены и ожесточены; вместо требуемых от них ответов, они произносили ругательства. Раненые дрожали от гнева, бросали на французов презрительные взгляды, отказывались от перевязки ран». Казаки всю ночь рыскали вокруг Бородина, пока Наполеон (а они отваживались довольно близко реять около его шатра) не снялся и не отошел от долины побоища. Он отступил первый, и никакие извращения и измышления французских шовинистически настроенных историков этого факта ничем затушевать не могут. Еще меньше можно отвергнуть и другой, несравненно более важный факт: полную неудачу основного плана Наполеона, с которым он вступил 26 августа (7 сентября) в бой и во имя которого он положил в этот день половину своей армии.
Наполеон приказал перестать отстреливаться от русской артиллерии и ускорить одновременно отход своих частей с поля битвы не только потому, что признавал и бесцельным, да и просто убыточным и небезопасным продолжать тратить снаряды против явно начинавшей брать верх русской дальнобойной артиллерии, но его под утро стали беспокоить и казацкие налеты на расположение французов. И он окончательно покинул роковое для него поле. Казаки перед рассветом уже реяли так близко к императорскому шатру, что пришлось, по особому приказу, поставить, в конце концов, около него специальную охрану из солдат старой гвардии. Заметим, что всего два раза за всю войну русским казакам удалось поставить под угрозу личную безопасность императора: ночью после Бородинского сражения, перед удалением Наполеона с поля битвы, и второй раз после Малоярославца, когда внезапный казачий налет навел панику на окружение и император чуть-чуть не был взят в плен.
Маршал Бертье (князь Невшательский) был начальником императорского штаба и с самого начала вторжения в Россию не переставал считать этот акт величайшей ошибкой Наполеона. В Витебске, в Смоленске он настаивал на прекращении дальнейшего движения на восток. Он был, как мы знаем, вовсе не одинок: храбрец Мюрат, король неаполитанский, в Смоленске бросился на колени перед императором, умоляя его не идти на Москву. Но Бертье был наилучшим из всех наполеоновских сподвижников «знатоком карты» и лучше других мог оценить (и оценил) удачный для русских, но в высшей степени невыгодный с точки зрения французских интересов выбор Кутузовым местности для боя, так как закончить здесь битву конечным общим лихим налетом и быстрым разгромом русской армии оказывалось в этих условиях абсолютно невозможным. Мало того, зная в точности, что даже и выступление гвардии и резервов победы не даст, Бертье лучше, чем кто-либо, учитывал к концу дня, что с резервами не вполне благополучно, и что уже и в гвардии вовсе нет полных 20 тысяч человек, как в ней считали в начале боя. И Бертье, как и сам Наполеон, опасался (к вечеру бородинского дня), что русская армия вполне готова снова на каком-либо пункте между Можайском и Москвой дать новый бой, где уже придется без всяких лишних разговоров пустить в ход 17-18 тысяч гвардии и другие наличные резервы, кроме гвардии. Поэтому он и отказал вице-королю во всем, если не считать нескольких десятков пушек из резервов гвардейской артиллерии. Старые военные служаки, вроде Бертье или маршала Даву, и до Бородина и после Бородина, наблюдая действия русских войск, не скрывали своего любования порядком, исправностью, дисциплиной кутузовской армии. Даву не скрывал своего восхищения, наблюдая русские войска именно на походе после Бородина. Печальным оком смотрел Бертье и на конец Бородинского сражения и на продолжение рокового наполеоновского предприятия…
Совсем другое настроение царило в лагере русских. Нет ни малейшего разноречия между всеми, кто наблюдал князя Кутузова в вечерние и первые ночные часы после конца битвы: он был полон радостного волнения, он держал себя так, как должен был держать себя человек, только что одержавший победу над опаснейшим противником, как должен был чувствовать себя полководец, спасший армию и спасший этим Россию. Такие настроения не подделываются, да и в его окружении царили совершенно аналогичные. Лишь во второй момент наступило раздумье, заботы о ближайшем дне. Но и тогда сомнений в том, можно ли назвать русской победой то, что произошло в минувший день, не было.
Что же, разве старый полководец ошибался? Или ошибались его генералы? Или уцелевшие солдаты его армии? Нет, их правдивое чутье не обманывало их нисколько. Оно до такой степени их не обманывало, что Кутузов совершенно определенно говорил о возобновлении боя с утра следующего дня. Он поехал в деревню Татариново, где находился Барклай, и отдал ему устный приказ и тут же написал при Барклае и письменное повеление ему немедленно начать выполнять все нужное для возобновления сражения утром. Мало того: Кутузов желал возобновить бой именно на том месте, где он был прерван ночной темнотой и одновременно сказавшимся в обеих армиях утомлением: с подступов к Курганной высоте, т. е., другими словами, с занятой французами батареи Раевского, на которой с наступлением ночи уже не оказалось (после разведки) ни одного француза. Но вот, в 11 часов ночи, к Кутузову явился Дохтуров, который восприняв от Коновницына командование остатками багратионовской армии, так и не сдвинулся до конца боя с Семеновских высот, как ему это и было приказано Кутузовым в момент его назначения. Как только Кутузову сообщили о приезде Дохтурова, он пошел к нему навстречу и громко воскликнул: «Поди ко мне, мой герой, и обними меня. Чем может государь вознаградить тебя?» Кутузов и Дохтуров ушли в другую комнату и остались наедине. Дохтуров подробно доложил о тяжелых потерях не только на левом крыле, но и в центре. И Кутузов тотчас после доклада Дохтурова отменил свое распоряжение о «завтрашнем» сражении и приказал дать знать Барклаю, уже начавшему работы при Горках по сооружению «сомкнутого редута» (или люнета) вроде того, в который обращена была так называемая батарея Раевского. После получения нового повеления Кутузова Барклай уже от себя приказал Милорадовичу прекратить начатые работы по восстановлению разрушенного и занятого французами люнета на Курганной высоте. Мы видим, что уже предприняты были Кутузовым очень серьезные меры к возобновлению боя. Неприятелю, если бы он вернулся, пришлось бы снова вести тяжкий бой у двух укрепленных позиций, но на этот раз не у флешей и на Курганной высоте, а у двух люнетов - у нового, сооруженного ночью Барклаем, согласно первому ночному повелению Кутузова, и у старого, разрушенного днем и теперь, ночью, спешно восстанавливаемого 4-м корпусом Милорадовича. Но второе повеление Кутузова сразу же прервало все эти работы и у Барклая, и у Милорадовича, совершаемые ночью среди неумолкаемых стонов и криков раненых и хрипа умирающих.