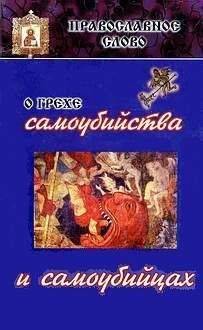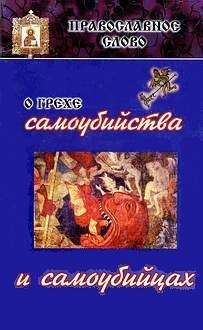Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга
Партийное начальство Ленинграда зорко наблюдало за этим очагом свободомыслия, и когда в отпечатанном молодыми поэтами на ротапринте в количестве 300 экземпляров «Горном сборнике» были найдены стихи, по мнению властей, со «скрытым антисоветским подтекстом», книжка была предана публичному сожжению прямо во дворе Горного института.
Несмотря на подобные суровые меры, популярность начинающих поэтов в среде ленинградской молодежи росла, и они даже, в лучших традициях литературных кружков Петербурга начала XX века, вступали между собой в эстетические баталии, протекавшие, правда, в основном в подполье. Поэты из Горного института ревниво относились к «волшебному хору» вокруг Ахматовой (Рейн, Найман, Бобышев, Бродский), считая его чересчур рафинированным и «эстетским», а некоторые из ахматовского кружка, в свою очередь, не очень жаловали молодых ленинградских «формалистов» – Владимира Уфлянда, Лосева, Еремина и юного Виктора Кривулина.
Когда в 1957 году поэты-«горняки» пригласили на встречу ведущую, по их мнению, старшую поэтессу, то это была не Ахматова, а бард ленинградской блокады Ольга Берггольц. Позвать Ахматову им, по их воспоминаниям, «было так же непредставимо, как пригласить княгиню Трубецкую из «декабристской» эпохи в коммунальную квартиру». А Берггольц эти молодые поэты воспринимали как свою: близкую, без аристократической дистанции, несшую им «истину об отчаянной неприкаянности голодного и неустроенного мира».
У Берггольц они особенно ценили ее неопубликованные, но широко распространявшиеся в «самиздате» драматические, на высокой ноте стихи о ее ужасной участи в годы Большого Террора, когда беременная поэтесса была – вслед за своим мужем, поэтом Борисом Корниловым (автором слов знаменитой песни Шостаковича в кинофильме «Встречный») – арестована ленинградским НКВД. Корнилова расстреляли, а Берггольц выпустили – после жестоких, бесчеловечных побоев, когда сапогами целились специально по животу. У Берггольц от этого случился выкидыш, и она навсегда потеряла способность рожать. Пройдя через эти страдания, а затем и 900 дней блокады, Берггольц пристрастилась к алкоголю.
Помню, как я отправился на квартиру к Берггольц брать у нее интервью. Дверь мне открыла сама хозяйка, которой тогда, в конце 60-х, не было еще 60 лет. Более или менее представляя ситуацию, я все-таки немного испугался, увидев женщину в халате, кое-как наброшенном на голое тело, со слипшимися седыми кудряшками короткой прически и мутным блуждающим взором. Берггольц еле держалась на ногах, но, обдавая меня густыми винными парами, хриплым голосом все же пригласила в комнату.
Разговор, двигавшийся поначалу кругами, неминуемо пришел к гибели Корнилова – теме, которая никогда не отпускала Берггольц. Она закурила и глухо, отрывисто заговорила о его и своих мучениях, прерывая свой страшный рассказ резким, лающим кашлем, казалось разрывавшим ее тонкую морщинистую шею. Берггольц, несомненно, была персонажем из Достоевского, и этот ее образ был бесконечно далек от царственной Ахматовой. Но именно роль Берггольц как пьяной мадонны Ленинграда привлекала к ней горячие симпатии и сочувствие поэтов-«горняков», среди которых был и Битов.
Битов также с благодарностью отзывался о «странных дружбах» с другими старшими ленинградскими писателями, которые во время хрущевской «оттепели» «вдруг обрели детскую возможность говорить о том, что их занимало, и находили в нас благодарную аудиторию. Мы приходили к ним из нашего «светлого подполья». Поскольку они были богаче нас, то могли поставить на стол бутылку водки, какую-то еду и пригласить молодежь. Кушнер бывал у Лидии Гинзбург – «формалистки», последней уцелевшей ученицы Тынянова. Потом он привел к Гинзбург меня. Мы тогда еще не знали, что она пишет великолепную прозу. Нас зазывал к себе один из «Серапионовых братьев», Михаил Слонимский. Мы ходили к профессору Берковскому, эрудиту и шармеру. Все они нас просвещали, особенно в смысле понимания культурных пропорций».
Вскоре оставивший поэзию для прозы, Битов в своих мастерских, «стереоскопических», написанных цепким и точным пером рассказах одним из первых и с наибольшей убедительностью и психологической достоверностью представил и проанализировал характер нового «лишнего» человека русской литературы, молодого ленинградского интеллектуала, разочарованного в официальных идеалах и неуверенно, на ощупь, постыдно ошибаясь и спотыкаясь на каждом шагу (Битов был особенно внимателен и безжалостен в описании мельчайших, заметных лишь под сильнейшим психологическим микроскопом моральных колебаний), нащупывающего путь к иной, еще неясно очерченной системе нравственных ценностей.
Герой Битова, обыкновенно ведущий исполненное дотошного самоанализа и мучительной иронии повествование от первого лица, бесцельно скитается по улицам города и, в традициях русской классической литературы, пытается заглушить сосущую его тоску, забредая в злачные места, посещаемые люмпенами и местными бомжами: «Тут курят и тут пьют водку, тут живут своими кончеными жизнями. Тут гвалт и все знакомы. И по-видимому, даже пивное начальство понимает, что бороться с этим бесполезно. Красный автомат выплевывает мне милое «Волжское» вино и будет выплевывать столько раз, сколько я этого захочу. Я хочу этого, не помню сколько раз».
Хотя проза Битова с самого начала (он начал печататься в 1960 году, в свои 20 с небольшим) носила довольно отчетливый автобиографический характер, все же между рассказчиком и автором сохранялась некоторая дистанция, которую Битову, вероятно, захотелось растворить в потоке лирической прозы. Он сделал это, своеобразно развив жанр путевого русского очерка и исколесив в поисках творческих стимулов и впечатлений весь Советский Союз, – в частности побывав в геологических экспедициях на Кольском полуострове, за озером Байкал, в Средней Азии и в Карелии.
Это была одна из артистических маний времени. Для Бродского (в отличие от профессионального горняка Битова) подобные экзотические экспедиции были одним из способов активного «выламывания» из системы и одновременно поэтического самоутверждения. С легкой руки Бродского, который похвалялся, что он «наводнил геологические экспедиции шизофрениками, алкоголиками и поэтами», этот способ заработка, нелегкий, но романтический, перепробовали многие ленинградские писатели, в том числе Горбовский и Кузьминский. Для них это была возможность бегства из города.
Битову, наоборот, далекие путешествия давали возможность многограннее и свободнее описать проблемы интеллектуала из центра. В этом смысле путевые очерки Битова (особенно завоевавшие широкое признание описания путешествий в Армению и Грузию), часто построенные как изощренный поток сознания, отмеченные прямыми и косвенными влияниями Пруста, Джойса и Набокова, представляли прямое продолжение восходившей еще к Пушкину имперской темы русской литературы, не только противопоставлявшей и сталкивавшей образ могущественного «колонизаторского» Петербурга с картинами вольной и «естественной» жизни витальных окраинных наций, но и размышлявшей об общности культурных и политических чаяний населявших страну народов. И на дальних границах империи Битов оставался безошибочно петербургским характером: сдержанным, наблюдательным, скрывавшим под иронической маской свою глубокую амбивалентность и неуверенность при столкновении с большими и малыми проблемами.
* * *Петербург – и старый, державный, пушкинский, и в его современной мутации как Ленинград – стал одним из главных «действующих лиц» многопланового, экспериментального романа Битова «Пушкинский дом», задуманного автором как реквием по петербургской интеллигенции. Битов сел его писать в 1964 году, в самом конце хрущевского правления, почувствовав, по его словам, отчаяние от ощущения смерти эпохи. (Позднее он признавался, что это отчаяние было, возможно, связано также с шоком от суда над Бродским, на котором Битов присутствовал в качестве испуганного и беспомощного зрителя.)
Герой романа, молодой филолог Лева Одоевцев, служил в «Пушкинском доме» – находящемся в Ленинграде Институте русской литературы Академии наук, старейшем в стране исследовательском учреждении подобного рода, воспетом еще Блоком в прекрасном стихотворении 1921 года, строфа из которого была вынесена Битовым в эпиграф романа. Но заголовок «Пушкинский дом» для Битова (он сознавался, что прикидывал в шутку возможность назвать свое произведение «A la recherche du destin perdu»[89], в подражание Прусту, либо, как приношение Джойсу, «Hooligan’s Wake»[90]) носил, разумеется, символический характер: это и весь Петербург, даже больше – вся Россия, и, наконец, самое дорогое для автора – русская литература.
Активное вторжение классических произведений «петербургского канона» в ткань романа Битова автором беспрерывно подчеркивалось и обыгрывалось: эпиграфы, цитаты (в том числе и скрытые), заимствования и аллюзии из Пушкина (особенно его «Медного всадника»), Лермонтова, Достоевского, Зощенко сталкивались, дробились, размножались, воссоздавая уникальный внутренний мир потомственного ленинградского интеллектуала второй половины XX века.