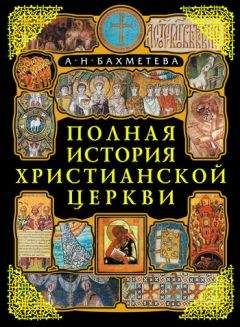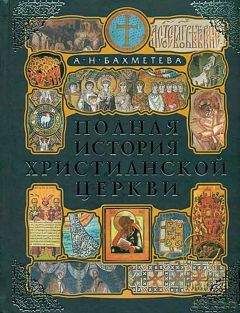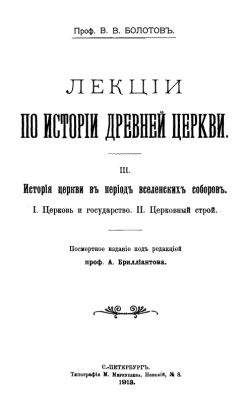Михаил Поснов - История Христианской Церкви
Такой точки зрения на главную причину разделения церквей, как борьбу за власть, держится проф. Т. В. Барсов (Проф. Т. В. Барсов. Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью. СПБ. 1878 г., стр. 121), проф. М. С. Суворов (Проф. М. С. Суворов. Византийский Папа. Москва. 1902 г. стр. 78. Такова же в сущности точка зрения и проф. Скобаллановича (Христианское Чтение 1884 г., 12 — 1885 г., I)), проф. Грибовский (Проф. Грибовский. Народ и власть в Византийском государстве. СПБ. 1897, стр. 365, 368), автор специального труда разделения Церквей Луи Брейэ (Louis Bréhier. Le schisme oriental du XIe siecle. Paris. 1899. p. 201, 203). Такова в сущности и точка зрения Гергенрётера (Hergenrother. Photius. 1867. Regensburg. B,1, 308-311), Гефеле (C.J. Hefele. Conciliengeschichte. B, IV. Wren. 1878, s. 767-777), Нордена (W. Norden. Das Papsttum und Byzanz. Berlin 1903. s.s, 9'31 (passim)), Пихлера (Dr. A. Pichler. Geschichte der Kirch'lichen Trennung. 1864, B, I-II) и других.
Освобождение от канонического авторитета папы не было главной целью стремлений Константинопольского патриарха, а только этапом. Его желанием было стоять выше Византийского императора. В Эпаногоге — втором и исправленном издании Прохорона — излагается Византийское учение о царской и патриаршей власти. Это учение принадлежит патриарху Фотию, который принимал деятельное участие в составлении и самой Эпаногоги (Иеромонах Каллист. Номоканон Фотия. Москва 1897 г., стр. 105). Положение Византийского патриарха и его отношение к государственной власти трактуется в первых 10-ти титулах Эпаногоги. В 7-ой главе 3-его титула Эпаногоги положение Константинопольского первосвященника, без всяких оговорок, приравнивается к положению царя: «Так как государство, на подобие человека, состоит из частей и членов, то наиважнейшими и необходимейшими членами являются царь и патриарх». «Патриарх был живой и воодушевленный образ Христа, всеми своими поступками и словами выражающий истину». Возвышая патриарха, Эпаногога не удовольствовалась расширением его прав в области церковного управления, она положила ограничения на саму светскую власть в пользу духовной, воспретив, например, узаконение мирского обычая, противного церковным канонам. Таким образом, Эпаногога выдвинула рядом с царем другую власть по значению не только равную, но в некоторых отношениях даже высшую. «В этом возвышении Константинопольского первосвященника, говорит проф. Грибовский (Проф. Грибовский. «Власть и народ», стр. 347), ясно сказались западно-папистические стремления той части Византийского общества, которая продолжала жить преданиями романизма». Действительно, выражения: «патриарх есть живой и одушевленный образ Христа, всеми своими поступками и словами выражающий истину», способны дать основание не только папскому догмату о непогрешимости, но даже превзойти его, ибо говорят обо всех поступках и словах патриарха, а Римский догмат лишь ex cathedra.
Что патриарх Фотий не развивал лишь теории о высоте власти патриарха Константинопольского, а, по-видимому, проводил свой взгляд в жизнь, — об этом могут свидетельствовать такие факты. Император Василий I, лежа на смертном одре, подозвал к себе сына Льва и учителя своих детей Стилиона и сказал им: «бойтесь Фотия, Сандаврена и их клевретов: они увлекли меня в бездну своими обманами» (Ibid., 372). Слова эти очень неясны, но, во всяком случае, они говорят не о добродетелях Фотия, а о каких-то его кознях. События ближайшего будущего, может быть, дают нам ключ к пониманию их в определенном направлении. Вступив на престол, Лев VI удаляет тотчас же Фотия с патриаршей кафедры, как чем-то опасного человека. Он возводит на кафедру своего младшего брата Стефана (886-893 г.), желая как будто бы хоть на первое время прибрать патриарший престол к своим рукам.
Не только не менее, но даже более ярким выразителем папистических стремлений на Востоке явился патриарх Михаил Керулларий (1043-1058 гг.). Патриарх Михаил держал в своих руках, по выражению Псёла: «дела Божеские и человеческие». Для характеристики Михаила Керуллария важна составленная, но не произнесенная речь упомянутого М. Псёла — это обвинение Михаила Керуллария, низложенного императором Исааком Комненом: «Я обвиняю архиерея в том, что ему не следовало… вмешиваться в государственные дела и заботиться о выборах царя… Он сделался тираном в отношении к двум царям (Михаилу VI Статриотику, 1056-1057 г., и Исааку Комнену 1057-1059 г.) чтобы утверждать державу и дворец за собою». По свидетельству Иоанна Скилицы, историка XI-го века, младшего современника Михаила Псёла, недовольный иногда царем (Исааком Комненом) Михаил Керулларий говорил: «Я тебя, печка, сложил, я тебя и разломаю». Он решил надеть на себя даже пурпуровые сандалии. Он говорил, что между священством и царством нет никакой разницы, или очень малая, а в более ценном священство может быть даже и выше стоит и большего почтения требует, чем царская власть /Кедрин, писавший в XII в. повторивший в своем «Συνοψις ιστοριων» Скилицу — у проф. Суворова. Восточный Папа, стр. 90/.
Если первую задачу своей программы Константинопольский патриарх решил успешно, хотя и искусственно и не на христианском пути, способом разрыва отношений со своим несговорчивым примасом, то при выполнении второй задачи, Константинопольского патриарха постигла полная неудача. Попытки Константинопольского патриарха стать не только рядом с Византийским царем, но даже и выше его — нужно рассматривать, как явление не типичное для него, а эпизодическое, при таких волевых и талантливых лицах, как Фотий и Михаил. Обычный же тип жизни сложился так, что царь властвовал — иногда деспотически — над патриархом, и Византийская Церковь всегда считалась цезаропапистической.
Для того, чтобы разрушить средостение, воздвигнутое между иудейским и языческим миром, в виде закона Моисеева, и для того, чтобы искупить человеческий род, сходил на землю Христос. Но что нужно для того, чтобы прекратить раскол в единой Церкви Христовой и призвать все к единению?
Но пропасть между Восточной и Западной Церковью вырыта руками человеческими и ими же должна быть и засыпана.
Занимаясь вопросом о соединении Церквей, несравненное большинство богословов православных останавливается на мысли, что Римская Церковь должна возвратиться в своем учении, в своих верованиях ко времени до разделения Церквей (Проф. В.А. Соколов «Богословский Вестник» 1904 г.) — и тогда только можно говорить о соединении
Нельзя не заметить с первого взгляда, что подобное воззрение отличается теоретическим, безжизненно-механическим характером, отнюдь не свойственным живой жизни. Какая сила может поворотить историю на 9-10 веков назад? Мыслимо ли это? Когда речь идет о живом явлении, то всякие пожелания о возвращении назад представляются не имеющими значения. Никакая сила не в состоянии оттеснить, отодвинуть жизнь на десятки веков назад. Вопрос может быть лишь об изменении принципа жизни, а не о фактах, порожденных жизнью.
При каких условиях, положениях и на каких принципах уживались друг с другом Восток и Запад в течение первого тысячелетия?
Дело, конечно, не в различии верований, литургических и канонических действий, обрядовых особенно. Они имели место с самого начала, и в течение целых веков с ними уживались. Несравненное большинство историков и канонистов соглашается с тем, что угроза миру церковному была создана в лице нового столичного Константинопольского епископа. Чрез его быстрый, довольно искусственный, рост, теория о пяти патриархах, уже к половине VII в. — ко времени порабощения Востока мусульманами — утратила свой реальный канонический смысл; христианским миром стала управлять не пентархия, а диархия: на Западе властвовал папа, на Востоке Константинопольский патриарх подчинил себе порабощенные мусульманами патриархии. Между ними началась борьба, кончившаяся не победой одного над другим, а крупной ссорой и разрывом всяких отношений.
Собственно вопрос о каноническом примате Римского папы решался и решается легко и бесспорно. Для нас это вопрос исторический. Мы можем согласиться с Максом, принцем Саксонским, что Римский папа не есть только учреждение латинское, а и кафолическое, вселенское, что римский епископ владел особым правом заниматься делами Вселенской Церкви (Смотри «Богословский Вестник» 1911 г. Февраль (2), стр. 322), полученным им, прибавим от себя, не от апостола Петра, но постепенно присвоенным им себе исторически.
Прекрасна и та мысль принца Макса, что одной из главных причин, вызвавших разделение Церквей, было желание со стороны папы навязать Восточной Церкви такую же власть, какой пользуется папа на Западе, как глава всех епископов, с такими ограничениями, что Римский папа имеет свой канонический примат на Востоке, но это не есть какая-то непосредственная власть распоряжения; Восточная Церковь вполне автономна, даже в смысле административной власти автокефальна. С этим можно согласиться.