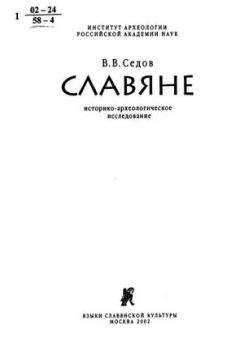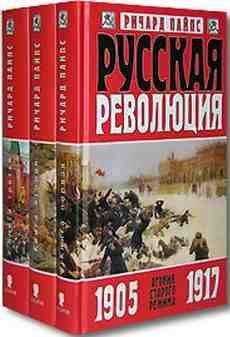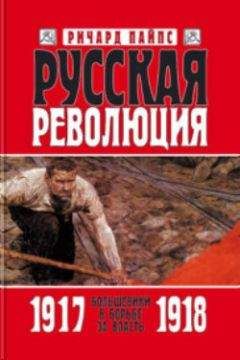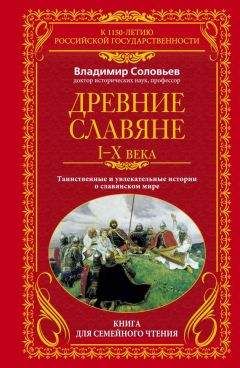Пайпс - Русская революция. Большевики в борьбе за власть. 1917-1918
Красный террор несопоставим поэтому ни с так называемым белым террором антибольшевистских армий в России, ссылкой на который большевики обычно оправдывали свои действия, ни с якобинским террором во Франции, который они, по их словам, взяли за образец.
Белые действительно казнили большевиков и тех, кто им сочувствовал. Расправы эти были и массовыми и весьма жестокими. Но они никогда не возводили террор в ранг особой политики и не создавали для этого формальных институтов, таких, как ЧК. Обычно такие казни производились по распоряжению армейских офицеров, действовавших по собственной инициативе. Часто они были эмоциональной реакцией на опустошительные картины, которые открывались взору на территориях, отвоеванных у Красной Армии. Будучи вполне одиозным, террор белых армий, в отличие от красного террора, никогда не был систематическим.
Якобинский террор 1793—1794 годов по своей философии и психологии имел много общего с красным террором, но в то же время между ними существовал ряд глубоких различий. Прежде всего, якобинский террор возник в результате давления снизу: его породила улица, голодная толпа, искавшая, на ком выместить свою ярость. В противоположность этому, большевистский террор был навязан сверху — массам, уже уставшим от кровопролития. Как мы еще увидим, Москва вынуждена была угрожать местным Советам серьезными карами за неисполнение директив о терроре. И хотя в 1917—1918 годы в стране было много насилия, ничто не свидетельствует о том, что толпа требовала крови целых классов.
Далее, два этих наиболее ярких в истории периода террора несопоставимы по своей длительности. Якобинский террор продолжался менее года — из десяти лет, которые, по самым скромным оценкам, длилась французская революция.
В этом смысле он действительно был лишь «коротким эпизодом». Сразу же после 9 термидора, когда якобинские лидеры были арестованы и гильотинированы, террор во Франции закончился. Внезапно и навсегда. Но в советской России он был перманентным, хотя и имел порой подъемы и спады. Несмотря на то что в конце гражданской войны была вновь отменена смертная казнь, по-прежнему, с полным пренебрежением к юридическим процедурам, продолжались расправы.
Глубокое различие между якобинским и большевистским террором лучше всего символизирует тот факт, что в Париже нет ни памятника Робеспьеру, ни улиц его имени, в то время как в столице советской России, в самом ее центре, до 1991 года огромная фигура основателя ЧК Феликса Дзержинского гордо возвышалась на площади, названной в его честь.
Большевистский террор не сводился лишь к массовым казням. По мнению некоторых современников, эти казни, как бы ни были они ужасны, вносили малую лепту в общую атмосферу подавленности. Исаак Штейнберг, свидетельству которого вполне можно доверять, ибо он, будучи юристом по образованию, занимал в правительстве Ленина пост наркома юстиции, отмечал в 1920 году, что, несмотря на окончание гражданской войны, террор, ставший неотъемлемым элементом режима, продолжался. Массовые расстрелы заключенных и заложников были, по его мнению, лишь «наиболее яркими объектами на мрачном небосклоне террора, нависшим над революционной землей». Они были «его кульминацией, его апофеозом».
«Террор — вовсе не отдельная акция, не изолированное, случайное, — пусть даже повторяющееся, — выражение гнева правительства. Террор — это система <...> созданный и легализованный режимом план массового устрашения, массового принуждения, массового уничтожения. Террор — это выверенный перечень наказаний, репрессалий, и угроз, с помощью которых правительство запугивает, соблазняет и принуждает выполнять свою волю. Террор — это тяжелый, удушающий покров, наброшенный сверху на все население страны, покров, сотканный из недоверия, потаенной бдительности и жажды мщения. Кто держит этот покров в своих руках, кто с его помощью держит в руках все население страны без исключения? <...> В условиях террора власть находится в руках меньшинства, печально известного меньшинства, сознающего свою изолированность и боящегося ее. Террор существует именно потому, что правящее меньшинство усматривает врагов во все большем числе индивидов, групп и слоев общества <...> Этот собирательный «враг Революции» разрастается, охватывая саму Революцию <...> Понятие это мало-помалу расширяется и в конце концов включает в себя всю страну, все ее население, «всех, за исключением правительства», и тех, кто с ним непосредственно сотрудничает»*.
* Steinberg I. Gewalt und Terror in der Revolution. Berlin, 1974. S. 22—25. Эта книга писалась с 1920 по 1923 г. и была впервые опубликована в 1931-м. Речь в ней идет не о сталинской, а о ленинской России.
В перечень проявлений красного террора Штейнберг включает разгон свободных профсоюзов, подавление свободы слова, создание плотной сети тайных агентов и доносчиков, пренебрежение правами человека, всеобщий голод и нищету. По его мнению, «атмосфера террора», его угроза, разлитая в воздухе, отравляла советскую жизнь даже больше, чем казни как таковые.
Террор вырастал из якобинского убеждения Ленина, что, находясь у власти и управляя страной, большевики должны физически истребить «буржуазию», сосредоточившую в себе все «порочные» идеи и побуждения. Термин «буржуазия» большевики употребляли расширительно, обозначая с его помощью две группы людей: во-первых, тех, кого по своему происхождению или месту в хозяйственной жизни они считали «эксплуататором», — будь то промышленник-миллионер или крестьянин, имеющий лишнюю сотку земли, и, во-вторых, тех, кто, независимо от своего социального или экономического положения, был не согласен с большевистской политикой. То есть человек мог выступать — объективно и субъективно — как представитель буржуазии из-за одних только своих взглядов. Вспоминая время, когда он работал в Совнаркоме, Штейнберг приводит эпизод, ярко раскрывающий кровожадные наклонности Ленина. 21 февраля 1918 года Ленин представил своему кабинету проект декрета, озаглавленного «Социалистическое Отечество в опасности!»12 Этот документ был откликом на немецкое наступление, последовавшее за отказом большевиков подписать Брестский договор. Декрет призывал народ вставать на защиту страны и революции. Один из его пунктов предусматривал, по замыслу Ленина, расстрел «на месте» — то есть без суда — весьма широкой и неясно обозначенной категории злоумышленников, в которую входили «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционно агитаторы, германские шпионы». Включая в этот перечень уголовников (спекулянтов, «громил», хулиганов), Ленин рассчитывал получить поддержку декрета в массах, уставших от разгула преступности, но подлинной мишенью были здесь его политические противники, обозначенные как «контрреволюционные агитаторы».
Против этой формулировки выступили левые эсеры, в принципе отрицавшие возможность применения смертной казни в борьбе с политическими противниками. «Я сказал, — пишет Штейнберг, — что эта жестокая угроза перечеркивает весь пафос манифеста. Ленин ответил с усмешкой: Напротив, именно здесь заключен подлинный революционный пафос. Вы что же, считаете, что мы сможем победить, не прибегая к жесточайшему революционному террору?»
Было трудно, — продолжает Штейнберг, — спорить об этом с Лениным, и вскоре наша дискуссия зашла в тупик. Мы обсуждали огромный террористический потенциал этой суровой полицейской меры. Ленина возмущало, что я возражаю против нее во имя революционной справедливости и правосудия. В конце концов я воскликнул раздраженно: «Зачем тогда нам вообще комиссариат юстиции? Давайте назовем его честно комиссариат социального истребления, и дело с концом!» Лицо Ленина внезапно просветлело, и он ответил: «Хорошо сказано<...> именно так и надо бы его назвать <...> но мы не можем сказать это прямо»»*.
* Steinberg In the Werkshop. P. 145. Штейнберг ошибочно приписывает авторства этого декрета Троцкому.
Главный вдохновитель красного террора, Ленин часто вынужден был обхаживать своих более гуманных коллег, убеждая их в необходимости жестких мер. Однако он правдами и неправдами старался, чтобы имя его никак с террором не связывалось. Обычно он настаивал, чтобы подпись его стояла под всеми законами и декретами, но он избегал этого, когда дело касалось актов государственного насилия. В таких случаях он доверял подписывать документы председателю Центрального Комитета, наркому внутренних дел или какой-нибудь инстанции, например, Уральскому областному Совету, которому была навязана ответственность за убийство царской семьи. Он отчаянно избегал ситуаций, в которых его имя оказалось бы исторически связано со спровоцированными им жестокостями. Как пишет один из его биографов, «он проявлял величайшую осторожность и всегда говорил о терроре лишь отвлеченно, чтобы его имя не ассоциировалось с конкретными террористическими актами, с убийствами в подвалах Лубянки или в каких-то других подвалах... Ленин сумел удержаться на такой дистанции от террора, что возникла легенда, будто он не принимал в нем никакого активного участия, предоставив решать все Дзержинскому. Это маловероятно, ибо он по натуре был неспособен передать кому-либо свои полномочия в решении важных вопросов»13. В действительности все решения о репрессиях, касались ли они общих процедур, или уничтожения важных заключенных, требовали санкции Центрального Комитета (позднее Политбюро), постоянным председателем которого de facto был Ленин14. И красный террор несомненно был его детищем, как бы отчаянно он ни пытался отрицать отцовство.