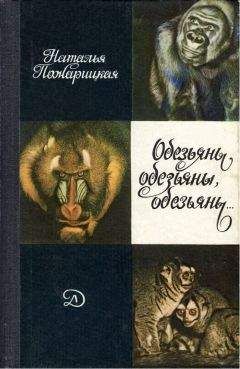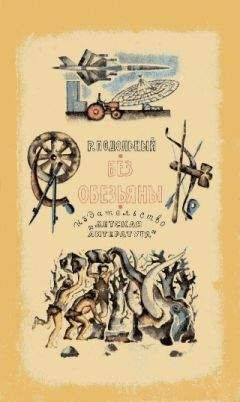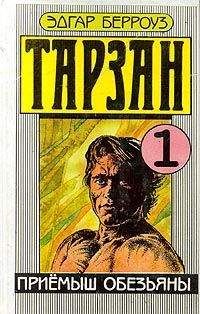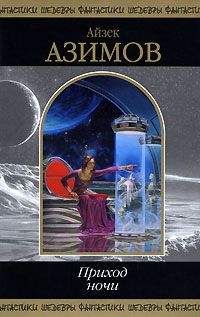Николай Данилевский - Россия и Европа
Славянофилы никогда не были оптимистами в суждениях о русском просвещении. Напротив, они очень строго судили о нашей литературе, науке, искусстве, иногда даже грешили по избытку строгости. У Хомякова, у И. Аксакова можно найти много самых горьких упреков нашей культуре, ее зыбкости, фальшивости и внутреннему бессилию. Западники всегда были довольнее нашим просвещением, потому что требования их были очень просты и, можно сказать, плоски, число их приверженцев было несравненно больше, и всякая умственная деятельность в духе западничества нарастала и распространялась с каждым днем. Западники желали больше всего прогресса в наших общественных порядках, славянофилы же брали дело гораздо выше и полагали главное в умственном перевороте, в глубоком преобразовании чувств и мыслей. Н. Я. Данилевский в этом смысле был ничуть не доволен развитием России и посвятил этому вопросу особую главу: "Европейничанье - болезнь русской жизни", главу, оставленную г. Соловьевым без всякого внимания.
Итак, если западники считают лучшим своим занятием ежедневно в газетах и журналах щеголять некоторою скорбью, то напрасно они присваивают себе какую-то монополию на скорбь. Кто больше и истиннее любит, тому и приходится больше и истиннее не только радоваться, но и огорчаться, и приходить в уныние и боязнь. И как обидно бывает, когда эту скорбь и волнение глубоко любящего человека поставят вдруг на одну доску с злорадными обличениями человека равнодушного или даже ненавидящего! Когда из слов, относящихся к частному случаю или выражающих временное огорчение, вдруг с бездушною недобросовестностью сделают какой-то общий приговор! Такие извращения не редкость у иностранных писателей и газетчиков, которым нет дела до наших чувств; можно сказать, что нечто подобное сделал и г. Соловьев, когда в конце своей статьи привел одно восклицание Данилевского и несколько моих строк как подтверждение своих суждений. Г. Соловьев, мы надеемся, чужд злорадства и ненависти, но его мнения, как он сам знает, придутся по душе многим западникам и ненавистникам, и нет никакого удовольствия вместе с ним служить для них потехою.
Между тем есть великая разница в самом смысле славянофильских и западнических упреков, даже если бы они совпадали в предмете осуждения. Известно, что славянофилы видели в России некоторое раздвоение, что они глубоко чтили дух русского народа, живущий в массе низших сословий, и питали мало уважения к объевропеившейся части народа, которую Данилевский так хорошо называл "внешним выветрившимся слоем", покрывающим твердое ядро. Упреки славянофилов относятся именно к этому слою, заправляющему у нас почти вполне и внешними и внутренними делами, но никак не ко всему народу, взятому в его внутренних силах и возможностях. Вот и разгадка того противоречия, которое нашел г. Соловьев в моих унылых словах, сказанных по случаю смерти Аксакова. "Он смущается,- пишет г. Соловьев обо мне,- и унывает только за нас, а само славянофильство остается для него в своем прежнем ореоле". И через несколько строк: "Он (все я же) рассуждает так: мы оказываемся духовно слабыми и для всемирных дел непригодными,- следовательно, нам должно быть стыдно перед славянофилами, которые так на нас уповали. Но не правильнее ли будет обернуть заключение: мы оказались духовно слабыми и несостоятельными для великих дел к стыду славянофильства, которое понапрасну и неосновательно надеялось на наши мнимые силы"? Г. Соловьев хочет сказать, что я смущаюсь, и унываю, и стыжусь будто бы за весь русский народ; нет, он ошибся, к таким чувствам я вовсе не расположен; я часто смущаюсь, и унываю, и стыжусь, но только за нас в тесном смысле, т. е. за себя с г. Соловьевым, за наше общество, за ветер в головах наших образованных людей и мыслителей, за то, что мы не исполняем обязанностей того положения, которое занимаем, что мы так неисцелимо тщеславны и легкомысленны, что мы не любим труда и постоянства, а предпочитаем разливаться в красноречии и только являться деятелями. Много у меня предметов смущения, уныния и стыда, но за русский народ, за свою великую родину я не могу, не умею смущаться, унывать и стыдиться. Стыдиться России? Сохрани нас Боже! Это было бы для меня неизмеримо ужаснее, чем если бы я должен был стыдиться своего отца и своей матери. Иные речи г. Соловьева об России кажутся мне просто непочтительными, дерзкими. Вот какое у меня настроение чувств, и вот почему я так уважаю славянофилов; по моему мнению, это самое настроение есть истинный корень славянофильства (...).
1888
Н. Н. Страхов
Последний ответ г. Вл. Соловьеву[7]
В "Вестнике Европы" за январь Вл. С. Соловьев отвечает мне на мою статью "Наша культура" и пр.
Мне очень хотелось бы, чтобы этот спор был понимаем читателями в его настоящем смысле, и потому решаюсь прибавить здесь несколько замечаний. Не следует упускать из вида главного предмета спора. Дело идет вовсе не об успехах России в науках и философии, не об любви к отечеству, не об моем гнусном "равнодушии к истине", не об желании Вл. С. Соловьева "протестовать против повального национализма, обуявшего в последнее время наше общество и литературу". (...) Дело идет о теории культурно-исторических типов, изложенной в книге Н. Я. Данилевского "Россия и Европа". За эту теорию я вступился против неожиданного и резкого нападения и очень желал бы, чтобы и теперь читатели главное свое внимание обратили на то, что касается этой теории.
Прочитав ответ Вл. С. Соловьева, я с удовольствием увидел, что спор наш кончен в этом отношении, т. е. что мне вовсе нет надобности вновь защищать теорию Данилевского. Если читатели вспомнят мою прежнюю статью и внимательно сравнят с нею то, что теперь написал против нее Вл. С. Соловьев, то, надеюсь, им будет вполне ясно, что все мои прежние доказательства остаются в полной силе. В первой своей статье противник теории культурно-исторических типов нападал на нее: 1) с точки зрения христианских начал, 2) на основании учения о человечестве как об едином организме, 3) со стороны общих научных требований, именно приемов естественной системы, 4) на основании хода всемирной истории, 5) на основании истории наук и религий. Эти исходные точки нападения я счел настолько важными, а самого нападателя - имеющим настолько веса в нашей литературе, что мне казалось нужным старательно отразить нападение. Все указанные возражения были мною выставлены, рассмотрены и опровергнуты. В новой статье мой противник не сказал ничего, ослабляющего мои доводы, так что мне нет надобности дополнять свою прежнюю аргументацию. Маленького добавления требует разве только новая ссылка г. Соловьева на ап. Павла, сделанная в защиту мысли о человечестве как едином организме, именно прямая ссылка на две главы посланий апостола, I Кор. XII, и Ефес. IV. Если непредубежденный читатель сам прочитает эти две главы, то он тотчас же увидит, что они наполнены увещаниями к единению и любви, обращенными к обществу верующих, к христианской церкви, а вовсе не содержат учения о едином организме человечества. Во второй из указанных глав, в стихах 17 и 18, прямо говорится: "Заклинаю господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их". Следовательно, здесь полагается существенное разграничение, и только верующие, если будут вести себя по вере своей, могут быть названы единым организмом.
Итак, я решаюсь в настоящем случае положиться на читателей, то есть надеяться, что они вспомнят мою прежнюю статью и увидят, что нынешние чрезвычайно горячие выходки Вл. С. Соловьева совершенно слабы и бессодержательны в отношении главного вопроса - теории культурно-исторических типов. Для читателей забывчивых и предубежденных, конечно, можно бы пуститься в повторения и истолкования, в шутку и разглагольствования; но, как ни полезно бороться против забывчивости и предубежденности, я не чувствую теперь к тому охоты, а без охоты, как известно, хорошего писания не бывает.
В одном только пункте мне хотелось бы прибавить новые пояснения, хотя и прежних достаточно для внимательных читателей. Г. Соловьев не верит моему изложению, по которому теория культурно-исторических типов имеет мирный характер, отличается духом славянской терпимости, ибо, по этой теории, могут одновременно существовать и развиваться несколько таких типов; так было прежде, так есть теперь, и в будущем нет для этого никакой невозможности. По уверению г. Соловьева я в этом случае "бесцеремонно подставил вместо основной мысли Данилевского какую-то совсем иную", и вот как г. Соловьев излагает подлинное мнение Данилевского:
"По теории Данилевского, славянство, будучи последним в ряду преемственных культурно-исторических типов и притом самым полным (четырехосновным), должно прийти на смену (?) прочих, частью отживших, частью отживающих типов (Европа); славянский мир есть море, в котором должны слиться все потоки истории (?) этой мыслью Данилевский заканчивает свою книгу, это есть последнее слово всех его рассуждений. Слияние же исторических потоков в славянском море должно произойти не иначе как посредством великой войны между Россией и Европой" (Вестн. Евр., янв., стр. 358).