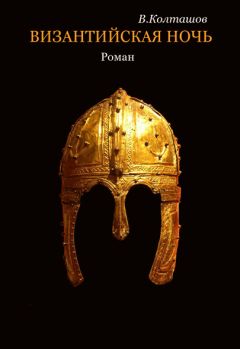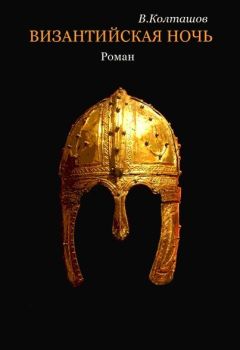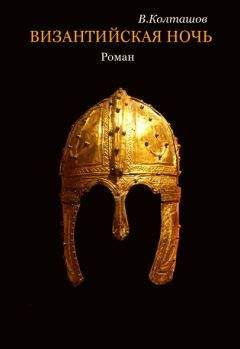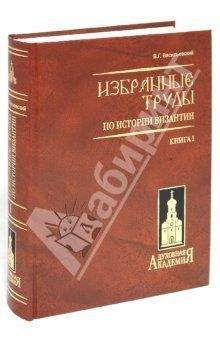Василий Васильевский - Печенеги
Давно Византийская империя не бывала в таком критическом положении. В самой природе совершались явления, которые поселяли на веселых берегах Босфора печаль и уныние, которые на несколько времени нарушили обычный строй городской жизни и сделали затруднительными общественные отношения. На улицах Константинополя выпал снег в таком количестве, какого никто не помнил, как будто уже заранее начиналось превращение Византии в жилище людей, пришедших с севера. Несколько времени, говорит Анна, положительно невозможно было отворить дверей в доме от глубокого снега.
Что же предпринял император Алексей Комнин, чтоб отвратить грозящую беду, чтобы спасти себя, столицу, наконец, империю? Византийская гордость, очевидно, не любила вспоминать об этой тяжелой зиме 1091 года. Царственная дочь императора Алексея, которая взяла на себя задачу описать подвиги своего отца, выражается о его действиях за это время как будто с рассчитанной краткостью и намеренной темнотой: «Император с возможной поспешностью отправил во все стороны послания, призывающие наемное войско».
Можно подумать, что речь идет о совершенно обычных хлопотах византийской дипломатии и казначейства нанять побольше охочих людей в свою армию, так как Византия, считавшая во многих из своих бесчисленных монастырей по пяти и семи сот монахов, постоянно чувствовала недостаток в воинах.
Но совершенно напротив, речь идет о таких решениях, которые, с одной стороны, могли быть внушены только отчаянием, с другой — давали совершенно новое направление всей византийской политике и которые определили на долгие годы судьбу династии Комнинов и самой империи.
Испытано было, правда, и старое средство византийской политики, которое часто удавалось прежде, но в настоящем случае именно и могло привести к совершенной погибели, не говоря о том, что оно, во всяком случае, соединено было с глубоким унижением. Византийский ум, искусившийся в политических комбинациях, до сих пор верил в себя крепко и, с высоты своего превосходства относясь к грубой недальновидности варваров, окружающих империю, не затруднялся пользоваться их услугами. Ученый император Константин с некоторым педантическим добродушием раскрыл в наставление сыну тайны византийского макиавеллизма, подробно объясняя, как один варварский народ может быть обуздываем при помощи другого.
Появление на сцене новых племен и народов нисколько не смущало хладнокровную расчетливость босфорских политиков. Они скоро соображали место, которое будет принадлежать новому народу в кровавой игре самоистребления всех этих дикарей, окружающих империю. Во Влахернском дворце не особенно дорожили теми варварами, которые жили вдали от столицы в разных провинциях и несли на себе всю тягость содержания десяти тысяч членов придворного синклита и целой армии местных чиновников. Запас варварского мира был неистощим: на место одних явятся другие. Так, печенеги были приняты в пределы империи взамен истребленного славянского населения. Византия думала найти в них совершенно пригодную ставку против нового хода, сделанного азиатским мусульманством в лице сельджуков, на которых печенеги так были похожи.
Но к несчастью, печенежские дикари, несмотря на поспешное крещение в дунайской воде, оказались мало способными служить высшим целям византийской политики. К несчастью, оказалось, что они слишком схожи с теми турками, с которыми им следовало на глазах византийцев беспощадно бороться, и встретили в пределах самой империи элементы, готовые вступить с ними в союз для ее разрушения. Сверх того в настоящую минуту печенеги, готовые, с одной стороны, подать руку туркам-сельджукам, могли в то же время найти себе поддержку среди кочевников, занявших их прежние поселения, с которыми теперь им делить было нечего. Только грубая варварская жадность к добыче и дикое неуменье разобраться миролюбиво предупредили общее нападение печенегов и половцев на империю в 1088 году. Византийская политика не замедлила, по-видимому, воспользоваться раздором, обнаруживавшимся среди единоплеменников: может быть, не без ее тайного участия появились половцы на византийской стороне Балкан, в тылу победоносных печенегов.
Но, достигнув своей цели, пригрозив печенегам союзом с их раздраженными единоплеменниками и принудив их таким образом к миру, даже к обещанию покорности, император Алексей счел за лучшее не брать на свои плечи новой опасной тяжести в виде таких ненадежных друзей, как половцы. Опираясь на соглашение с печенегами и на очень, впрочем, сократившееся богатство константинопольской казны, он заставил половецких ханов совершить обратный путь к низовьям реки Днепра, где они могли продолжать свои набеги на небогатые города русские. Однако если император Алексей надеялся справиться с Печенежской ордой только собственными средствами, то события не оправдали его расчетов. Всего хуже было то, что в лице Чахи явился враг, который с предприимчивой смелостью варвара соединял тонкость византийского образования и отличное знание всех политических отношений тогдашней Восточной Европы, который задумал сделаться душой общего турецкого движения, который хотел и мог дать бессмысленным печенежским блужданиям и разбоям разумную определенную цель и общий план. Окруженный со всех сторон опасностями, император Алексей вынужден был обратиться опять к тем же половцам, которые недавно были обижены предпочтением, оказанным их врагам, и невниманием к их готовности оказать услугу империи истреблением сих последних. Некоторые из грамот, о которых говорит дочь Алексея, без сомнения, пошли в половецкие вежи на берегах Днепра и Дона и, вероятно, также и к князьям русским[60].
Нет сомнения, что для такого умного и опытного человека, как император Алексей, и теперь были очевидны все опасные последствия того шага, который он делал, приглашая в пределы империи новые толпы свирепых варваров. Единоверные с Византией русские князья не могли прийти на помощь к грекам без согласия или мира с половецкими ханами Боняком и Тугорканом. А отправившись, как это часто делалось, вместе с полками половецкими, русские князья не могли привести с собою столько собственных сил, чтобы иметь решительное влияние на дикую волю половецких кочевников. Что же будет, если половцы найдут более выгодным соединиться со своими единоплеменниками и обратиться вместе с ними против византийской столицы? Кто мог поручиться за постоянство вражды или дружбы, управляемых только необузданными порывами хищнических инстинктов? Если даже печенеги будут разбиты при помощи половцев, то не будут ли все благие плоды победы состоять в том, что империя попадет, как говорилось и у греков, из огня в полымя? Незачем было и задавать себе вопроса о том, что будет делать победоносная орда половцев, когда она утвердится в недрах империи. Она будет делать то же, что делали печенеги. Сам император Алексей, посылавший посольство к Боняку и Тугоркану, через несколько времени не мог сказать, против кого направятся те силы, которые сбирались в низовьях Днепра и Дона.
Но Византийская империя тонула в турецком нападении, а утопающий не разбирает средств для своего спасения. Нечестивый, безбожный, шелудивый Боняк и его не менее достойный товарищ Тугортак, или Тугоркан, были союзниками отчаяния; они должны были в самом благоприятном случае только помочь императору Алексею пережить критическую минуту, пока не придут более надежные, более цивилизованные и человечные союзники. Этими союзниками были люди латинского Запада; у них просил себе помощи император Алексей, туда были отправлены грамоты, призывавшие со всех сторон наемное войско: факт, отвергаемый патриотизмом греческим, но тем не менее не подверженный ни малейшему сомнению.
VI
Первые годы последнего десятилетия в XI веке — это был момент, когда государственная Византия, гордая своими римскими преданиями, своим незапятнанным православием, своим бесконечным превосходством над всем варварским миром, грубыми инстинктами которого она умела управлять с таким искусством и к среде которого она причисляла как западных христиан, так и своих славянских единоверцев, потеряла веру в себя и в высокие заслуги своего православия. Эти заслуги пред судом истории действительно высоки, но они, конечно, не оправдывали того иудейского, во веяном случае не христианского, воззрения, что догмат и обряд составляют всю сущность христианства — помимо духа любви христианской; что общество, которое умеет понимать и толковать все глубины догмата и лучше других сохранило правильность обряда, есть уже новый сосуд избрания, во всех случаях как бы обязательно охраняемый самим Богом; что временные несчастья и бедствия происходят только от случайных и частных нарушений в каком-то подразумеваемом договоре с Богом, а не от постоянного забвения основной заповеди о христианском братстве и любви.