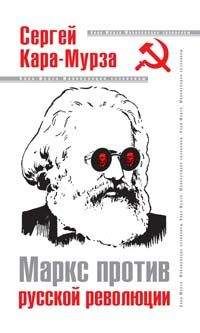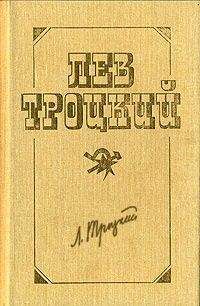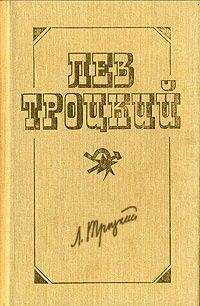Карл Клаузевиц - 1812 год. Поход в Россию
Но генерал Багратион был чрезвычайно недоволен этой позицией: маленький холм, находившийся по другую сторону Уши впереди правого фланга, был признан господствующим над позицией пунктом, и это признавалось основным недостатком данного плана. Полковник Толь, человек чрезвычайно упорный и не слишком вежливый, не захотел сразу же отказаться от своей идеи и стал возражать, что в высшей степени раздражало князя Багратиона, который закончил разговор довольно обычным в России заявлением: «Господин полковник! Ваше поведение заслуживает того, чтобы вас поставить под ружье». В России подобное выражение является не только фразой; как известно, там может состояться в законном порядке своего рода разжалование, причем самый знатный генерал, по крайней мере формально, может быть сделан рядовым. К этой угрозе никак нельзя было отнестись с пренебрежением. Барклай смог бы заступиться за своего генерал-квартирмейстера, лишь выступив в качестве главнокомандующего, и категорическим приказанием заставить князя Багратиона замолчать и повиноваться, но он был далек от этого.
Проявить такую авторитетность, пожалуй, было для него и практически невозможно вследствие сложившихся взаимоотношений; к тому же он не обладал достаточно властным характером для такого выступления. Не подлежит также сомнению, что по мере приближения Наполеона решимость дать сражение в нем ослабевала. Итак, оба генерала решили отказаться от позиции, которую так расхваливал полковник Толь, и 24-го занять другую, на одну милю позади, у Дорогобужа, которую князь Багратион признавал гораздо более выгодною.
По мнению автора, эта позиция была отвратительна: перед фронтом ее не было никакого препятствия для подступа к ней, а обзор отсутствовал полностью; довольно обширный, извилистый и всхолмленный Дорогобуж находился позади правого крыла; часть войска, а именно — корпус Багговута, располагалась по другую сторону Днепра на еще более невыгодной позиции. Автор от этой перемены был в отчаянии, а Толь пришел в состояние тихого бешенства. По счастью, и это решение оказалось недолговечным; в ночь с 24-го на 25-е армия снова двинулась дальше. Так прошли еще четыре перехода, до 29 августа; постоянно высказывали намерение принять на следующей позиции бой и всякий раз отказывались от него, как только приходили на эту позицию.
Ближайшее подкрепление, которого следовало ожидать, резерв под командой генерала Милорадовича, должно было состоять из 20 000 человек, но в действительности достигало лишь 15 000. На него рассчитывали еще на стоянке в сел. Усвяты, но действительно прибыло оно лишь в Вязьме.
Наконец 29-го, в одном переходе от Гжатска, Барклаю показалось, что он нашел позицию, которая, будучи усилена сооружением ряда намеченных укреплений, допускала принятие боя. Он тотчас приказал усилить ее несколькими укреплениями. Но в этот самый день прибыл Кутузов в качестве верховного главнокомандующего. Барклай вернулся к командованию Первой Западной армией, а Кутузов пока приказал продолжать отступление.
Об этой перемене в командовании стали говорить лишь за несколько дней до прибытия Кутузова; это доказывает, что назначение Кутузова не было предрешено при отъезде императора из армии; Кутузов в таком случае прибыл бы раньше. В армии полагали, что нерешительность Барклая, мешавшая ему дать генеральное сражение, и недоверие к нему, распространившееся за последнее время в армии, где на него стали смотреть как на иностранца, побудили в конце концов императора поставить во главе всего ведения военных действий того из коренных русских людей, кто пользовался наилучшей боевой репутацией.
Если принять во внимание момент этого назначения, то можно предположить, что решающее значение для смены Барклая имел отказ от уже начатого наступления под Смоленском. Это имело место 7 и 8 августа, а три недели спустя прибыл Кутузов. Надо полагать, что в это время в Петербург поступило много неблагоприятных донесений о Барклае; главным орудием в данном случае, вероятно, послужил великий князь Константин, который под Смоленском еще находился при армии и полностью примкнул к сторонникам идеи наступления. Эти донесения могли поступить в Петербург в середине августа, и этим объясняется то, что при некоторой поспешности Кутузов смог прибыть в армию спустя две недели.
В армии по этому поводу была великая радость. До сих пор, по мнению русских, дела шли очень плохо; таким образом, всякая перемена позволяла надеяться на улучшение. Между тем, относительно боевой репутации Кутузова в русской армии не имелось единодушного мнения: наряду с партией, считавшей его выдающимся полководцем, существовала другая, отрицавшая его военные таланты; все, однако, сходились на том, что дельный русский человек, ученик Суворова, лучше, чем иностранец, а в то время это становилось особенно необходимым. Барклай не был иностранцем: сын лифляндского пастора, он родился в Лифляндии; Барклай с ранней молодости служил в русской армии, и, следовательно, в нем ничего не было иностранного, кроме его фамилии и, правда, также акцента, так как по-русски он говорил плохо и всегда предпочитал немецкий язык русскому. В существовавших тогда условиях этого одного уже было достаточно, чтобы его считали иностранцем. То обстоятельство, что полковник Вольцоген, который находился лишь около 5 лет в России, состоял при особе Барклая, не будучи его адъютантом и не служа в квартирмейстерском штабе, заставляло смотреть на него как на интимного советника Барклая и в самом Барклае видеть как бы иностранца. К Вольцогену же, человеку серьезному и не обладавшему той вкрадчивостью, которая в чести у русских, относились с подлинной ненавистью. Автор этих записок слышал, как один офицер, вернувшийся из главной квартиры Барклая, изливал свое озлобление, причем сказал: «Вольцоген сидит в углу комнаты, как жирный, ядовитый паук-крестовик».
Так как, по мнению русских, все шло из рук вон плохо, то считали возможным все приписывать предательским советам этого иностранца; никто не сомневался в том, что Барклай действует исключительно под влиянием его тайных нашептываний. Пожалуй, главный импульс такому настроению давали то отвращение и недоверие, которые питали к подполковнику Вольцогену полковник Толь и генерал Ермолов; они полагали, что он порою выступал против их взглядов и что он много напортил своими дурными советами. В частности, Вольцоген принимал участие в решении отказаться от начатого наступления у Смоленска, так как он именно особенно высказывал предположение, будто Наполеон находился на дороге в Поречье. На самом деле Вольцогену оказывали слишком много чести, приписывая Барклаю такое к нему доверие. Барклай был довольно бесстрастный человек, и притом мало восприимчивый в идейном отношении; таких людей обычно покорить нельзя; к тому же надо сказать, что Вольцоген вовсе не был доволен ни Барклаем, ни той ролью, которую он при нем играл; он мирился со своим положением только потому, что надеялся все же в отдельных случаях принести пользу и предотвратить худшее. Во всяком случае, его намерения не заслуживали такого недоверия. Только подозрительность могла заставить людей без всякого разумного основания, из-за одной лишь фамилии, смотреть на офицера, являвшегося флигель-адъютантом императора и пользовавшегося его доверием, как на предателя. Это недоверие к иностранцам впервые пробудилось по отношению к Барклаю и Вольцогену, и оно мало-помалу более грубыми, необразованными элементами армии распространилось на всех прочих иностранцев, которых, как известно, всегда очень много в русской армии. Некоторые русские, которые непосредственно не приписывали дурных поступков иностранцам, все же считали, что их присутствие может прогневить русских богов и что иностранцы приносят несчастье. Впрочем, это было глухое, лишь намечающееся настроение в армии, о котором автор здесь упоминает потому, что оно очень характерно, и притом подчеркивает, какими глазами русские до этого времени смотрели на события этой кампании. Отдельному иностранному офицеру не ставили это в строку, так как окружавшие его люди всегда наглядно убеждались, что этот офицер, конечно, преисполнен самыми честными намерениями; так, например, автор может похвалиться прекрасным приемом, который ему почти всегда оказывался, и самым дружественным отношением к себе его русских товарищей.
Итак, прибытие Кутузова вновь пробудило в войсках чувство доверия; злой демон в лице чужестранца изгнан заклятием чисто русского человека, нового Суворова в несколько уменьшенном масштабе; теперь уже не сомневались, что в ближайшее время будет дано настоящее сражение, в котором видели кульминационный пункт французского наступления.
Однако если Барклай, спотыкаясь, как человек, потерявший равновесие и не могущий остановиться, дошел от Витебска до Вязьмы, отступая перед Наполеоном, то и Кутузову не сразу в первые же дни удалось стать на твердые ноги. Он прошел через Гжатск, который, как и Вязьма, был подожжен, и 3 сентября занял под Бородином позицию, показавшуюся ему достаточно хорошей, чтобы принять на ней сражение. На этой позиции войска тотчас же возвели укрепления. В сущности, Бородинская позиция была выбрана теми же глазами, которые выбирали все позиции для Барклая, т. е. глазами полковника Толя, и, конечно, она не принадлежала к числу лучших из тех многочисленных позиций, которые этот офицер находил пригодными для поля сражения.