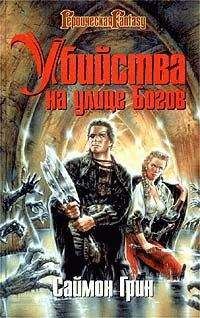Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
Крашевскому особенно любопытны, как кажется, люди и места, связанные с «историями», располагающие к рассказам, местным «байкам» разного рода, — стоянка извозчиков, трактиры и кофейни; его интересуют городские толки (в общем-то и сплетни, как бы он их ни клеймил), тот разноголосый говор, в котором, собственно, и заключены голоса и звуки города, важное содержание его жизни, — всем этим наполнены словесные пейзажи и зарисовки писателя. В них-то, со всей их незатейливостью и непритязательностью, можно по-настоящему почувствовать атмосферу города, они неотъемлемая часть его характера, они заселяют разные его уголки, создают ореол таинственности, по-своему одушевляют холодный мрамор статуй и архитектурных изысков — у каждого свои легенды. Вообще в его описаниях масса «знаковых» мест, «урочищ» и т. п.; фактически город Крашевского весь и состоит из таких локусов.
Крашевский описывает кофейни и трактиры, кондитерские — и здесь заметна та же любовь к систематизации, росписи по рангам, от блестящих на центральных улицах до убогих где-то на задворках. Писатель уверен, что «если по чему можно узнать каждый город, то именно по кофейням и трактирам» (118). Разумеется, он подробно характеризует типы и хозяев, и работников, и посетителей, в особенности завсегдатаев, которые окружены почти семейной заботой хозяев.
И здесь, конечно, неизбежны контрасты — не только в смысле богатых и бедных заведений, но и контрасты иного плана, характерные, кажется, именно для этого города. В бедных трактирах основные посетители, как и следует ожидать, — это учащаяся молодежь, шумно сбегающаяся обедать. Убогий интерьер детально описан автором: поломанные ступени, темная горница с «адскими» запахами кухни, под стать интерьеру и хозяйка, и помощница, даже пес и кот. Но окна этого обеденного зала выходят на «живописный дворик, который и для Рембрандта составил бы предмет оригинального полотна. Этот квадратный дворик окружают деревянные галереи, драпированные белым и не слишком белым бельем жителей, развешенным для художественного эффекта по перилам. Свет падает во двор сверху и создает тени удивительных форм. Половина стен в тени, половина на свету» (121). Крашевский и сам обладал талантом художника — владел техникой гравюры (литографии), писал акварели. В студенческие годы он учился рисунку в Виленском университете у Яна Рустема, был дружен с живописцем Винцентием Смоковским. Во всех своих путешествиях и странствиях он постоянно делал зарисовки, которыми иллюстрировал свои описания. Типология виленских двориков — излюбленный сюжет художников — также, кажется, ведет начало от описаний Крашевского. Несмотря на иронию, проступающую в описании, дворик по-своему красив и романтичен, и автор им любуется. Такие контрасты и составляют характер виленских городских уголков (кстати, подобные дворики сохранились до сих пор).
От интерьера убогой харчевни писатель неожиданно, но плавно и естественно переходит к интерьеру комнаты хозяйки заведения. При этом общая и намеренно отстраненная позиция повествователя (который себя с описываемыми типажами горожан не отождествляет) сохраняется, это всезнающий автор. Вещи и предметы интерьера (их немного — комод, ясеневая кровать и сундук, «полный тайн», зеркало и портрет покойного супруга) — свидетельство и итог значительного отрезка жизни, а в сущности, судьбы. Пристальное внимание к детали способствует единству описания, причем детализированность интерьера соответствует у Крашевского детальности городского пейзажа: создается впечатление, что в небольшом городе все проницаемо, и тем самым усиливается внимание к мелочам городской жизни.
Крашевский, несомненно, причастен к тому процессу семиотизации города писателями XIX века (начатому еще романтиками и их предшественниками), о котором писал В. Н. Топоров как о «процессе одухотворения и антропоморфизации элементов вещного мира. Применительно к теме города этот положительный аспект находит свое отражение в появлении интереса к тому, что раньше было лишь непременным условием городской жизни, ее не имеющей знаковой функции рамкой. Помещения внутри дома (комната, лестница, дверь, порог), сам дом и то, что вне дома (двор, улица, переулок, площадь)… начинают соотноситься и соразмеряться с самим человеком»[142].
Если верить описаниям Крашевского, то названные контрасты все же уравновешиваются присутствием юности — молодых клиентов харчевни, которым автор поет настоящий гимн: «Видишь этих румяных, веселых хлопцев, что спешат усесться за столом и заглатывают скудное варево пани Туганович, смеясь и шутя, запивая водой, подсаливая недосол веселыми остротами, обгрызая кости, подбирая с тарелок сомнительные соусы. Это молодежь, которую питает надежда будущего, а не эта бедная пища; которую живит энтузиазм и наука; которую держит на свете молодость» (122). И совсем ностальгические нотки: «О, счастливый возраст, когда каждая Мариторна видится Венерой, а каждый 15-грошовый обед Лукулловым пиром; этот возраст уже никогда не возвратится» (123). Столь пристальный интерес к питанию горожан и описания трактиров, харчевен и т. п. создают эквивалент «чрева» города, источника его энергии, — ведь рынки автор не описывает.
Крашевский признает особенную праздничность города во время маскарада. «О, никогда не забуду вечеров, проведенных в доме Мюллера в пустых шутках, в веселых разговорах с незнакомыми, в погоне за потешными масками, над которыми насмехались немилостиво» (125). Но все же для него даже и маскарады лишены оригинальности. «Маскарад! Хорошо понимаю безумства римского и венецианского общества там, где дни и ночи на улицах проходил сумасшедший карнавал, карнавал настоящий, если у нас такое впечатление на каждого молодого производит обещание зимнего маскарада, запертого в двух залах, окруженного караулом, предупреждающим чрезмерное веселье, маскарад, состоящий порою исключительно из незамаскированных масок» (124).
Ни настоящего веселья, ни оригинальности забав и масок — а причина в том, что, «к несчастью, так в этом Вильно все друг друга знали» (125), что очень легко раскрывались и без того «полупрозрачные» маски, отчего и добрый юмор увядал, как «цветок, подрезанный косой». Карнавал, который должен бы преобразовать, «встряхнуть», «перевернуть» город, имел лишь несколько очагов; складывается впечатление, что маленький город боится предаться веселью сполна — его жителям недостает естественного (врожденного) умения веселиться, что создавало атмосферу итальянского карнавала[143]. По-видимому, описание Крашевским маскарада соответствует «вырожденному карнавалу», о котором писал Бахтин, однако справедливости ради отметим, что «возрождающий и обновляющий момент» в маскарадном Вильно не вовсе утрачен[144]. Точно так же и «для хорошего театра Вильно слишком мало» (135). Правда, Крашевский описывает забавное представление любительского (силами ремесленников) «театра на крыше» во время его молодости, куда нужно было добираться по темным и крутым лестницам почти с риском для жизни, но зато там, на крыше, у «Отелло» оказывался благополучный конец (137–139).
И этот невероятный театр в конце концов вообще таинственно исчезает — хозяин шаткого сооружения отказывается вновь пустить «труппу», театрик перебрался, но куда — «открыть того мы уже не могли», — почти по-гоголевски сетует автор на некоторую виленскую фантасмагорию (144). Театральность сама по себе вписана в его город, в своем изображении писатель часто использует диалог, передает подслушанные уличные разговоры, рисует жанровые сценки.
Излюбленные места прогулок горожан становились постепенно одной из постоянных виленских примет, они часто описывались позднее. Окрестности Вильно являлись естественным продолжением города и в этом смысле не отличались от парков (может быть, поэтому части из них даны знаменитые и знаковые имена). Весною в Вильно, как пишет Крашевский, «все живое прогуливается» (141). «Окрестности Вильно богаты красивыми местами, и горожане вполне их оценили, потому что прекрасным весенним, летним, осенним вечером всегда встречается разноцветная толпа, неспешно движущаяся к Поплавам, Иерусалиму, Бетлеему, на Погулянку, в Закрет, на Антоколь» (141). Наблюдательному «летописцу» здесь раздолье, он занимается социально-психологическим «анализом»: «Здешний большой свет, кажется, считает самым привилегированным Сапежинский парк; а средний свет облюбовал себе несравненно красивейшие прогулки в Иерусалим и Бетлеем, где можно встретить самые разнообразные типы, движущиеся в тени леса или по широкой дороге. Были и такие, кто предпочитал садик Струмилло, украшенный цветами; одичавший уже и печальный, но красивый Закрет, наконец, привилегия прогулок академиков — Погулянка» (142). Не кажется ли, что в этом городе место способно красить человека?.. В подобных описаниях обычная ирония автора уступает место поэтичности. «Прежде любимыми прогулками были бульвары, тянущиеся по берегу Вилии; здесь заканчивали поздние прогулки, отсюда в любой момент можно было отправиться домой. Сад Тиволи и Сапежинский также притягивали жителей Вильна. Мужчины садились за столиками Тиволи, а женщины более охотно ехали погулять по улицам старого регулярного монастырского сада, в котором еще били старомодные фонтаны» (142).