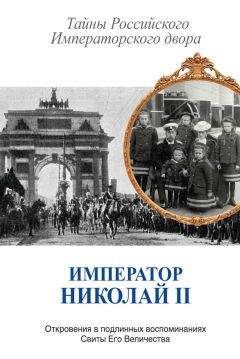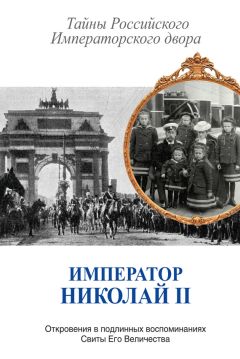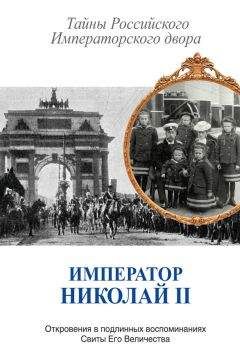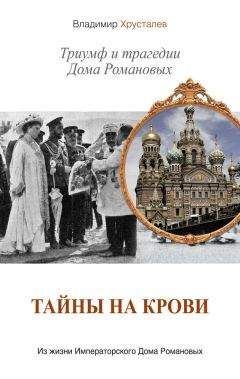Жозеф де Местр - Рассуждения о Франции
В Англии эти две магические буквы — М.Р., [158]присоединенные к самому безвестному имени, сразу же его возвышают и дают ему право на отличный брачный союз. Во Франции человек, который домогался бы места депутата для того, чтобы добиться заключения в свою пользу неравного брака, очевидно, просчитался бы весьма серьезно.
Ибо всякий представитель — любое, все равно какое орудие ложного суверенитета — может вызывать только любопытство либо страх.
Невероятная слабость одинокой человеческой власти такова, что она сама не может даже узаконить какое-либо платье. Сколько докладов было представлено Законодательному корпусу относительно одежды его членов? По меньшей мере три или четыре, но всегда напрасно. За границей продают изображения этих прекрасных костюмов, в то время как парижское мнение их не признает.
Обычная одежда, современница великого события, может быть узаконена этим событием; тогда черты, ее (стр.99 >) отличающие, избавляют ее от господства моды: в то время как другие одежды изменяются, эта остается все такой же, и уважение окружает ее навсегда. Примерно таким же образом создаются одеяния высших должностных лиц.
Для того, кто все подвергает рассмотрению, может быть любопытным наблюдение, согласно которому из всех революционных убранств единственно утвердились в какой-то степени перевязь и султан, принадлежащие кавалерии. Они продолжают существовать, хотя и поблекли, как те деревья, уже лишенные питательных соков, но еще не потерявшие красоты. Государственный чиновник, украшенный этими опозоренными знаками, немало походит на разбойника, блистающего в одеждах человека, только что им раздетого.
Я не знаю, хорошо ли я читаю, но везде я прочитываю ничтожество этого правления.
Пусть особое внимание будет обращено на следующее: именно победы Французов создали иллюзии относительно прочности их правления: блеск военных успехов ослепляет даже людей здравомыслящих, которые не замечают прежде всего того, до какой степени эти успехи не причастны к устойчивости Республики.
Нации одерживали победы при всевозможных правлениях: и даже революции, возбуждая умы, ведут к победам. Французам всегда будет сопутствовать успех в войне при твердом правлении, у которого достанет ума презирать их, восхваляя, и бросать их на врага как ядра, обещая им эпитафии в газетах.
Это Робеспьер по-прежнему выигрывает сейчас битвы, это его железный деспотизм ведет Французов к бойне и к победе. Властители Франции добились успехов, свидетелями которых мы являемся, потому лишь, что не жалели золота и крови и заставляли напрягать все силы. Нация в высшей степени отважная, возбуждаемая каким-либо фанатизмом и ведомая (стр.100 >)умелыми генералами, всегда будет победительницей, но дорого заплатит за свои завоевания. Разве конституция 1793 года получила печать долголетия благодаря трем годам побед, в центре которых она оказалась? Почему с конституцией 1795 года должно бы получиться иначе? и почему победа должна бы придать ей такой характер, который она не смогла сообщить другой?
Вообще, характер наций всегда остается неизменным. Барклай в шестнадцатом веке очень удачно обрисовал характер Французов в военном отношении: Это нация,говорит он , в высшей степени отважная и у себя дома представляющая непобедимую армаду; но когда она выступает за свои пределы, она уже не та. Отсюда происходит то, что ей никогда не удавалось сохранить свое владычество над чужими народами, и что только несчастье делает ее мощной. [159]
Никто не ощущает лучше меня, что нынешние обстоятельства необычайны, что мы, очень может быть, вовсе не увидим того, что всегда видели; но этот вопрос не относится к предмету моего труда. Мне достаточно указать на ложность следующего умозаключения: Республика победоносна; следовательно, она будет прочной. Если бы надо было непременно пророчествовать, то я скорее бы сказал: она жива благодаря войне; следовательно, мир ее похоронит.
Автор какой-нибудь физической системы несомненно аплодировал бы себе, если бы в его пользу говорили все данные природы. Я же могу привести в подтверждение моих размышлений все данные истории. Я добросовестно рассматриваю памятники, которые она нам предоставляет, и не усматриваю ничего благоприятствующего этой химерической системе (стр.101 >) обсуждения и политического строительства с помощью сделанных ранее умозаключений. Самое большое, что можно было бы сделать, это привести пример Америки; но я уже заранее ответил, [160]говоря, что не пришло время приводить ее пример. Я добавлю, однако, небольшую толику размышлений.
1. Английская Америка имела короля, но она его не видела; великолепие монархии было ей чуждо, и суверен был для нее подобен какой-то сверхъестественной силе, которая не воспринимается чувствами.
2. Она обладала демократическими началами, которые наличествуют в конституции метрополии.
3. Она обладала, сверх того, людьми, принесенными ей толпою ее первых поселенцев, урожденными посреди религиозных и политических потрясений, людьми, почти поголовно исполненными республиканским духом.
4. Используя эти начала, и по сходству с тремя властями, которые они унаследовала от предков. Американцы построили, [161]а отнюдь не уничтожили все до основания, как Французы.
Но все, что есть действительно нового в их конституции, все, что проистекает из совместного обсуждения, является самым хрупким в мире; невозможно было бы собрать большее количество признаков слабости и недействительности.
Я не только совершенно не верю в устойчивость американского правления, но и особые учреждения английской Америки не внушают мне никакого доверия. Например, города, охваченные весьма малопочтенной ревностью, не смогли условиться относительно места, где бы заседал Конгресс; ни один из них не (стр.102 >) захотел уступить эту честь другому. В результате было решено возвести новый город, который являлся бы резиденцией правителей. Было выбрано одно из самых удобных мест на берегу большой реки, установлено, что город будет называться Вашингтон, [162]определено местоположение всех публичных зданий; едва приступили к осуществлению дела, а план царствующего городауже распространяется по всей Европе. По сути дела, здесь нет ничего, что выходило бы за пределы силы человеческой власти. Вполне можно построить город: однако в данном деле слишком много умысла, слишком много человеческой природы, и можно было бы с успехом поставить тысячу против одного, что город не построится, или что он не будет называться Вашингтоном, или что Конгресс не будет там находиться. [163]
Глава восьмая [164].
О СТАРОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КОНСТИТУЦИИ.
ОТСТУПЛЕНИЕ О КОРОЛЕ И О ЕГО ОБРАЩЕНИИ К ФРАНЦУЗАМ В ИЮЛЕ 1795 ГОДА.
(стр.103 >) Существовали три различных взгляда на старую французскую конституцию: одни [165]полагали, что нация никогда не обладала конституцией; другие [166] утверждали противоположное; некоторые, [167]наконец, как это бывает во всех важных делах, придерживались промежуточного суждения: они допускали, что Французы действительно имели конституцию, но что она никоим образом не соблюдалась.
Первое мнение поддержать невозможно; два других в действительности вовсе не противоречат друг другу. (стр.104 >)
Ошибка тех, кто утверждает, что Франция совершенно была лишена конституции, проистекает из сильного заблуждения относительно человеческой власти, предыдущих обсуждений и писаных законов.
Если чистосердечный человек, имея за душой только здравый смысл и порядочность, вопрошает, что же это такое — старая французская конституция, ему можно смело ответить:
«Это то, что вы ощущаете, когда находитесь во Франции; это такое соединение свободы и власти, законов и воззрений, которое заставляет думать иностранца, подданного какой-либо монархии и путешествующего по Франции, что он пребывает под иным правлением, нежели его собственное».
Но если имеется желание рассмотреть вопрос поглубже, то в памятниках французского публичного права обнаружатся свойства и законы, которые возвышают Францию над всеми известными монархиями.
Особенное свойство этой монархии заключается в том, что она обладает неким теократическим началом, которое отличает ее и позволило ей сохраняться четырнадцать сотен лет: нет ничего более национального, чем это начало. Епископы, наследовавшие друидам, лишь только совершенствовали его.
Я не думаю, что какая-либо иная европейская монархия использовала бы ради блага Государства большее число высших священнослужителей в гражданском управлении. Я мысленно восхожу от миротворца Флери [168] к Св. Одену [169] и Св. Леже [170] и стольким (стр.105 >) другим, политически так отличившимся во мраке их века; к этим настоящим Орфеям Франции, очаровывавшим своей лирой тигров и заставлявшим горные дубы двигаться за ними: я сомневаюсь, что возможно было бы указать на подобную череду где-нибудь еще.