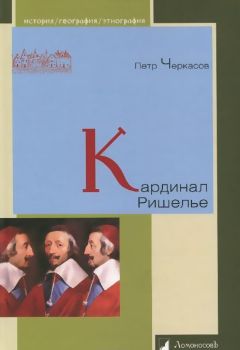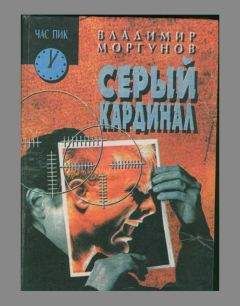Владимир Успенский - Тайный советник вождя
Как раз в это время я узнал точно, в каком полку служат оба негодяя и на каком участке фронта находится этот полк. Следовало найти повод для поездки туда. Зная честолюбие генерала Мамонтова, я предложил ему свои услуги: составить для истории описание победных боев за Царицын. Естественное дело для офицера Генерального штаба. Сразу же выразив согласие, Мамонтов даже не скрывал своей радости и предупредил только, чтобы весь материал был дан ему на предварительное прочтение. У меня в руках оказался документ, открывавший доступ на любой участок фронта, чем я и не замедлил воспользоваться.
В сопровождении трех казаков перебрался на левый берег Дона и там узнал, что положение белых войск не так уж блестяще, а скорее наоборот. Когда вступление в Царицын казалось уже совсем близким, у красных сменилось командование, они нанесли несколько сильных контрударов, остановили наступавших, погнали на запад. Произошло это столь неожиданно, действия красных были так энергичны, что многие казачьи сотни и пехотные батальоны оказались рассеянными или совсем разбитыми. От полка, где служили оба негодяя, уцелели лишь жалкие остатки, с трудом пробившиеся назад, к Дону. Капитана Давниса и поручика Оглы среди них не было. Позабыв осторожность, я расспрашивал, кто и где видел их в последний раз. Несколько человек подтвердили, что Давнис и Оглы, когда полк наступал, находились в авангардном отряде, который был окружен красными. Молодой прапорщик божился, что сам видел в бинокль, как Давнис и Оглы, вероятно, легко раненные, шли по степи под конвоем красных солдат.
Первой и единственной мыслью моей, когда узнал об этом, было: немедленно перейти линию фронта. Я не задумывался над последствиями такого поступка, над тем, какая пропасть разделяет ту и другую стороны. В общем-то и здесь и там русские, а моя цель выше и важней междоусобной драки. Единственно, что заботило меня, — как пересечь фронтовую полосу, кем сказаться на той стороне. Любой красноармеец может «шлепнуть» белого офицера, и никто не остановит его, даже похвалят.
Хорошо бы мне спрятаться, укрыться так, чтобы фронт прокатился мимо, чтобы горячка боя оказалась за спиной. А уж там, на территории красных, видно будет, сориентируюсь по обстановке.
Отпустив верховых казаков за Дон, чему они несказанно обрадовались, я остался с пластунами, имевшими приказ оборонять левобережный хутор. Пожилой, степенный есаул, командир пластунов, пригласил меня в добротный бревенчатый дом. Там посреди горницы был стол, ломившийся от разнообразной закуски, а у окна установлен пулемет, смотревший вдоль хуторской улицы. Есаул пояснил, что тут у него и квартира, н штаб, и боевая позиция. Я же польстил его самолюбию, сказав: совмещать приятное с полезным дано не всякому, повоевать надо изрядно, чтобы научиться такому искусству. Но поскольку здесь шумновато, а мне желательно выспаться, то отдохну на сеновале. В случае чего пусть меня разбудят.
— До вечера красные не сунутся, — уверенно произнес есаул. — Какая война при таком солнце, испечешься. В степи пусто, только разъезды маячат.
Ординарец, прихвативший пикейное покрывало и подушку с хозяйской кровати, проводил меня на просторный сеновал над погребицей, наполовину заваленный сеголетним душистым сеном. Горячий воздух здесь, под нагретой крышей, казался густым и вязким, дышать было трудно, все тело покрывалось испариной. Помучившись в духоте, я отодвинул широкую доску, сбросил вниз, в сарай, несколько охапок сена, подушку и покрывало, а затем сам спрыгнул туда. Конечно, здесь было гораздо прохладней. И погреб рядом. Поднял тяжелую крышку — из темноты пахнуло сыростью, гнильцой. Ладно, на всякий случай есть где затаиться.
Бой, как и предполагал есаул, завязался вечером. Началась винтовочная пальба где-то на подступах к хутору, потом приблизилась, потом ударили пулеметы. По звукам нараставшей стрельбы я понял, что красные атакуют напористо и обходят хутор с левого фланга.
Дважды кто-то прибегал, поднимался по лесенке на сеновал, звал меня, но я не ответил.
У красных имелось несколько трехдюймовых орудий, но, вероятно, мало снарядов. Они били изредка, стремясь подавить пулеметы. Это им не очень-то удавалось, однако снаряды подожгли хутор. Ветер разносил снопы искр, одна за другой загорались крыши, пылали сараи. У меня на погребице становилось все светлее. И вот с жадным треском огонь охватил сено над головой, на сеновале, сквозь щели пробились язычки пламени. Этак заживо сгореть можно или задохнуться дымом и гарью. Выскакивать на улицу? Там стрельба, крики, близкие разрывы гранат. Как раз угодишь под пулю. И в погреб лезть жутковато. Обрушатся горящие бревна, завалят. Испечешься, как картошка в костре. Но это — крайность. Зато какой подходящий случай!
Я рискнул. Осторожно спустился в темное подземелье, задвинув за собой тяжелую дубовую крышку. Чиркнув спичкой, осмотрелся. У дальней стены мокрая солома, прикрывавшая остатки запасенного на лето льда. Несколько кадок и бочек. С квасом, с солеными огурцами. Это оказалось кстати: когда и где теперь придется перекусить? Я с удовольствием съел пяток огурцов, запив их кислым крепким квасом. И, присев на ступеньку, стал ждать, чем все это закончится.
Сарай действительно скоро рухнул, пожар бушевал над моей головой, и погреб постепенно наполнялся дымом, заставлявшим меня спускаться все ниже, к земляному полу, где легче было дышать. А жара нарастала. Мне, право, было жаль, что пропадет, испортится все вкусное добро, заготовленное хозяевами.
О себе почти не думал. В трудной обстановке решения приходят словно бы сами собой. Снял френч, сорвал погоны. Когда стало совсем невмоготу от жары, опустил френч в кадушку с квасом, подержал, чтобы намокла материя. Накинул френч на голову и, став на ступеньку, затылком надавил крышку люка. Она не то что раскрылась, она распалась, настолько истлела в огне. Раскаленные угли посыпались на меня. К счастью, сухие бревна и доски уже сгорели; ничего, кроме груды углей, не оказалось на люке, и я, затаив дыхание, одним рывком выскочил из пожарища. Отбросил дымящийся френч. Оказался посреди улицы: мокрый, закопченный, грязный, в нижней рубахе, в прожженных галифе и в совершенно не пострадавших превосходных сапогах, какие положены лишь старшим офицерам и генералам. По этим-то сапогам красноармейцы, проходившие мимо, сразу опознали во мне беляка и, разумеется, не рядового.
— Ребяты, откель он взялся?
— Из ада выскочил, недобиток!
— Значит, добить его в самый раз!
Это был критический момент, которого я больше всего боялся. Я молчал и не двигался, опасаясь еще больше осложнить свое положение. А красноармейцы, сгрудившись, обсуждали:
— Осмелился, вошь тифозная.
— Глянь, может, там еще есть?
— А, нехай горят!
Подошел еще кто-то. Раздался резкий голос:
— Что за пугало?
— Ахвицер из погреба выскочил. Кокнуть его?
— Я те кокну! Приказа не знаешь: всех офицеров в штаб полка на допрос. Ряшкин, веди.
Невероятное облегчение ощутил я и чувство признательности к этим вот красным, у которых есть, оказывается, строгие приказы, определенный порядок. У меня появилась возможность осмотреться, освоиться в новом положении.
Конвоиром оказался курносый крепыш в старой гимнастерке, такой выгоревшей и застиранной, что похожа была на белую солдатскую рубаху времен скобелевских походов. Шаровары аккуратно заплатаны на коленях, ботинки, хоть и разбитые, но не заскорузлые, смазанные дегтем. Винтовку держал привычно, вид у него был бравый, и я понял, что мне с ним повезло. Не новичок, который может наделать глупостей из-за чрезмерной старательности, но и не заматеревший до крайности фронтовик, видевший-перевидевший все, для которого чужая жизнь — пустой звук. Устанет в дороге, озлится, пристрелит, а потом доложит: бежать, мол, пытался, стервец…
Мой конвоир был средних солдат; он и царской строгой службы хватил, и на войне побывал, но человечности еще не утратил, не закоснел от смертей и крови. Вел меня вполне прилично, изредка покрикивая для собственного взбадривания. Только на сапоги мои смотрел этот крепыш Ряшкин с такой завистью, что я не сомневался: разует.
— А ну, стой! — не выдержал он наконец. — Садись на камень.
Я сел.
— Размер-то подходящий, — глазами нацелился Ряшкин.
— Что? — я будто не понял.
— Сапоги, говорю, скидавай. Да побыстрей, не телись!
Обидно мне было слышать грубость, подчиняться солдатской прихоти, но что поделаешь? Конечно, бросившись на него, я мог вырвать винтовку и прикончить на месте эту обнаглевшую деревенщину. Мог убежать в степь. Но зачем? Я ведь сам стремился в плен и теперь нечего давать волю своему самолюбию.
Сев поодаль и положив винтовку, Ряшкин торопливо натягивал на грязные, в черных разводах портянки мои новые красивые сапоги, а я смотрел на него и думал: хам есть хам при любой власти и любой расцветке — хоть красный, хоть белый, хоть какой. Разве мамонтовский казак оставил бы на пленном хорошие сапоги? Да никогда. С ногами бы оторвал. И Ряшкин тоже. Суть в благородстве, в воспитании… Но тут же вспомнился мне Давнис — обрусевший французский аристократ, вхожий в такие высокие круги, куда мне, простому русскому дворянину, закрыт был доступ, — разве он не пакостней, не страшней в сотню раз любого мужика, любого казака, которые по нужде добывают себе одежду-обувку?