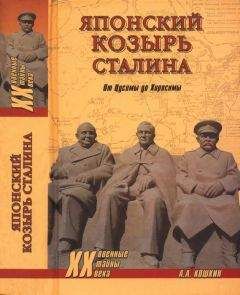Сборник статей - И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата
Сложная история семьи Е.С. Булгаковой – отца и братьев, ее собственная биография с яркими авантюрными чертами, которые заставляют вспомнить нескольких женщин ее поколения, оставивших свой нестираемый след в истории России XX века (М.И. Будберг, Лиля Брик58), – довольно подробно освещены в работе Т.К. Шор (специально написанной для «Тыняновского сборника» по просьбе редколлегии; документально восстановленное автором родословие Нюренбергов не мешает внуку Е.С. Булгаковой и сегодня утверждать, что «ее родители немецких кровей»59) и в нашей статье60.
При изучении биографических фактов стало ясно главное для данного случая: сколь многое Е.С. долго и успешно скрывала (два брата в фашистской Германии; о младшем, отправленном в лагерь либо расстрелянном после предвоенной советской оккупации Латвии, она вообще никогда не обмолвилась ни единым словом) – до Булгакова, в течение жизни с ним и после его смерти.
Можно предполагать, что о каких-то важнейших обстоятельствах жизни красивой жены крупного военспеца, сложившихся до встречи с Булгаковым, сам он узнал – случайно или от нее самой – лишь тогда, когда они уже соединили свои судьбы. Им владело несомненно страстное и глубокое чувство к ней. Кроме прочего, он нашел в Елене Шиловской то, чего давно искал, – сильную женщину, к тому же исполненную витальностью. Обратившись еще раз к сопоставлению с несколькими ее колоритными сверстницами, найдем такое описание впечатления от М. Закревской (Будберг), сложившееся зимой 1918 года у молодого британского агента Р.Б. Локкарта: «Ее жизнеспособность, быть может, связанная с ее железным здоровьем, была невероятна и заражала всех, с кем она общалась. Ее жизнь, ее мир были там, где были люди, ей дорогие, и ее жизненная философия сделала ее хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой»61. Несмотря на неясности перевода (какое значение русского слова «мещанка» имелось в виду?), мои личные впечатления от довольно тесного, почти ежедневного (и всегда многочасового) полуторамесячного общения с Е.С. в 1969 году очень близки к этому описанию (разве что без аристократического происхождения и с поправкой на то, что, не обладавшая крепким физическим здоровьем, она ухитрялась быть «в форме», проявляя чудеса выносливости и, конечно, «железной» выдержки и самоконтроля).
Молодость этих женщин пришлась на эпоху, когда человека с непомерной силой испытывали на прочность, резко отодвинув с авансцены ценности, привитые в детстве. Нити добра и зла спутывались. Складывались новые для бывших российских подданных, особые отношения с властью; чекисты были важнейшей частью этой власти, от них зависела и сама жизнь – своя и близких, и то благополучие, которое для этих молодых, красивых, жизнелюбивых женщин было неразрывной частью самой жизни. И Е.С., и М. Будберг оказывались еще в начале 20-х годов под арестом, и можно не сомневаться в том, как именно запах тюрьмы подействовал на них. Они считали себя достаточно сильными, чтоб вступить в игру, где ставки были высокие.
Насквозь проникнутая тайной слежкой и осведомительством атмосфера 30-х годов, как и двоящееся, граничащее с восхищением отношение персонажей и повествователя в прозе Булгакова к работе тех, для какого сыск – основная профессия, а также готовность наблюдать вблизи себя заведомых осведомителей – все это достаточно подробно рассмотрено нами в особой работе62. Не жившим в этой атмосфере трудно, почти невозможно понять жизнеповедение тех, кто воспринимали ее как непременное условие существования. Отсюда столько прямолинейной оценочности в суждениях о Булгакове – и столько глубокого непонимания его романа. Один из читателей работы «Материалы к биографии Е.С. Булгаковой» написал мне в свое время о довольно «мрачных» впечатлениях от моих осторожных предположений о ее роли, поскольку в таком случае М. А. об этом не мог не знать и участвовал в этой «игре». Разговоры, что называется, «в пользу бедных». Эти люди не нуждаются в нашей защите. Им довольно будет нашего понимания. Важно хотя бы попытаться приблизиться к той реальности, где лучшие душевные качества человека63, сила и богатство личности соседствуют с сомнительными поступками, – и все вместе может неожиданно возникнуть перед взором любящего человека как исполненная драматизма непреложность.
«Игра» была в любом случае многосоставной, взаимоотражающих зеркал в их доме было немало64.
Нас же в пределах данной работы интересует авторское отношение к Маргарите.
Вернемся к тем таинственным пушкинским строкам, с которых начали.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
В стихотворении «В начале жизни школу помню я…» они явно противопоставлены той, которая названа «величавой женой», чьи «полные святыни словеса» не удерживают отрока-автора подле нее. Именно в саду (лицейском?), среди изваяний
Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.
В наиболее близком нам истолковании, которое дает всему стихотворению С.Г. Бочаров, отмечено, что сначала в рукописи было: «.. двух богов изображенья». «Бесы» же, по его мнению, «действительно сильное и ударное слово в тексте, но Пушкин свой голос с ним не сливает. „Весь: ^ здесь названы как христианский псевдоним античных богов, и Пушкин эту ортодоксальную точку зрения, можно сказать, цитирует. Этим сильным словом два кумира здесь припечатаны, но ведь никак не исчерпаны <… > собственное их эллинское качество сияет из-под этой печати»65. Вот так и красота, обаяние, женственность, страстность Маргариты сияют из-под припечатавшего ее слова – «ведьма»66.
Маргарита в романе стала, в сущности, частью того мира, где правит Князь тьмы. Она в другом измерении, чем Иешуа, – едва ли не на другом полюсе. Но и там не менее (если не более), чем на противоположном, находит художник то, что вызывает те самые слезы вдохновенья.
Сегодня можно встретить глубокомысленное отрицание самой возможности любви Маргариты к Мастеру – ведьмы не способны к таким чувствам. Тут плоско (а главное – невероятно далеко от литературы) морализирующие авторы67 близко подходят к тому, что С. Бочаров называет «нынешним благочестивым пушкиноведением». В обоих случаях морализаторы судят невпопад.
Смысл фигуры Боланда и слов его двойника – Мефистофеля, взятых в качестве эпиграфа ко всему роману, т. е. авторизованных, в том, на наш взгляд, что Булгаков понял и прочувствовал – дьявол уже среди нас, Сатана уже здесь правит бал. Весь новый отсчет пошел от этого, и в новосозданном мире «благо» можно получить лишь из рук того, кто «вечно хочет зла». В этом мире с новыми координатами выносится и оценка действий Маргариты, а тем самым – и ее прототипа.
Автор не может объявить свою героиню виновной. Она стала ведьмой, спасая возлюбленного. Таково найденное автором объяснение (и оправдание) неизвестных нам, но, несомненно, драматических коллизий жизни ее прототипа.
6 М. Булгаков: воздействие поэтики на биографию
Сквозь канву биографии автора, растянутую на фабульных опорах ранних вещей – «Записок юного врача» и «Записок на манжетах», пробивается в повестях середины 20-х (и при посредстве материала этой же биографии формируется ) тип нового героя: врач (естествоиспытатель) с чертами творческого (и не только) всемогущества 68, притом нуждающийся в помощи власти.
Когда складываются константы творчества – оно дает импульс поступкам автора и корректирует их. Последствия же поступков посылают обратные импульсы – в творчество.
Эту обоюдную связь можно проследить. В феврале 1928 года Булгаков обращается в Моссовет с просьбой о поездке за границу (становящейся все более и более важной для него) и получает отказ. В том же году он начинает «роман о дьяволе» (так это сочинение долгое время будет именоваться впоследствии в дневнике Е.С. Булгаковой), где с первых страниц формируется фигура, так сказать, многократно укрупненного телефонного собеседника профессоров из «Роковых яиц» и «Собачьего сердца». Эти персонажи автор в него и преобразует: могущество врача («маг и кудесник») выводит к Воланду69 – носителю могущества социально действенного, властителю над земными властителями. Такой персонаж появляется в первой редакции романа – когда, заметим, в его замысле еще отсутствует тот, помощь кому станет позднее важнейшей функцией Воланда.
Полтора года спустя, в начале сентября 1929 года, Булгаков пишет заявление – уже на имя высших государственных инстанций – с просьбой об отъезде за границу «на тот срок, который Правительство Союза найдет возможным назначить мне» – и вступает в переписку об этом же с Горьким.