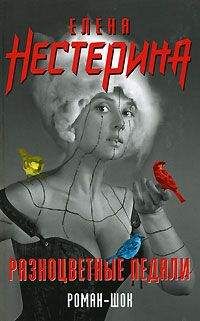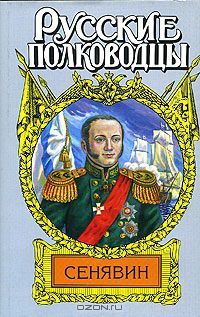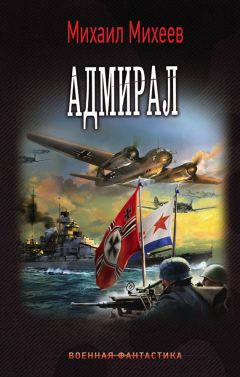Тим Вейнер - ЦРУ. Правдивая история
В свой первый день работы Госс приступил к чистке, еще более стремительной и обширной, чем любая чистка в истории Центрального разведывательного управления. Он выдворил почти всех членов высшего командного состава ЦРУ. Своими действиями он породил обиды и ожесточение, которых не замечали в штаб-квартире уже больше тридцати лет. Особенно сильным было негодование по поводу изгнания Стивена Каппеса, руководителя секретной службы. Каппес, бывший морской пехотинец и бывший шеф отделения в Москве, воплощал в себе все самое лучшее в ЦРУ. В сотрудничестве с британской разведывательной службой он в свое время лично поспособствовал триумфу американской разведки и дипломатии, убедив Ливию отказаться от своей долгосрочной программы по разработке оружия массового поражения. Когда он подверг сомнению мнение Госса, ему тут же указали на дверь.
Новый директор окружил себя группой политических «проституток», которых привел за собой с Капитолийского холма. Они все полагали, что выполняют миссию Белого дома, цель которой – избавить ЦРУ от подрывных элементов левого толка. В штаб-квартире создалось впечатление, что Госс и его верные «питомцы» прежде всего ценили лояльность президенту и его стратегиям, что они не хотели, чтобы агентство хоть на йоту отступало от политики Белого дома, и что те, кто посмеет бросить им вызов, заплатят за это. Бичевание ЦРУ по праву являлось вопросом компетентности. Но совершенно несправедливо стало вопросом идеологии.
Директор издал приказы, направленные против несогласия с политикой президента. Его идея была понятна: либо идите «в ногу», либо уходите. Второй вариант оказался более привлекательным для талантливой десятой части персонала ЦРУ. Огромная отрасль, отвечавшая за национальную безопасность и сосредоточенная в комплексе зданий на краю Вашингтонской кольцевой автодороги, продавала свои услуги правительству, которое таким образом, за счет внешних ресурсов, решало свои внутренние задачи. Лучшие представители агентства ушли из ЦРУ, были «распроданы». За полтора десятка лет до этого ЦРУ было переполнено стареющими ветеранами холодной войны. Теперь оно было битком набито неопытными новичками. К 2005 году половина основного состава сотрудников ЦРУ – операторов и аналитиков – имела за плечами всего пятилетний опыт работы, а иногда и того меньше.
Пренебрежительное заявление президента о том, что агентство «лишь строило догадки» по поводу Ирака, вызвало раздражение у тех профессионалов, которые, несмотря ни на что, все же остались на службе. Офицеры ЦРУ в Багдаде и в Вашингтоне пытались предупредить, что путь, на который президент встал в Ираке, был пагубным. Они говорили, что Соединенные Штаты не могут управлять страной, которую они не понимают. Но к их словам в Белом доме никто толком не прислушался. И вообще они были ересью для президентской администрации, политика которой основывалась на беспрекословной лояльности.
Четыре бывших руководителя секретной службы попытались воздействовать на Госса, посоветовать ему не торопиться, чтобы не разрушить то, что еще осталось от ЦРУ. Но он не внял их просьбам. Один из них предал этим событиям огласку. «Госс и его прислужники могут в скором времени нанести всем нам непоправимый ущерб, – написал Том Тветтен в статье, опубликованной в «Лос-Анджелес таймс» 23 ноября 2004 года. – Если профессиональные сотрудники агентства перестанут верить в то, что руководство на их стороне, то они не станут рисковать ради него и в конечном итоге здесь не останутся». На следующий день Джон Маклохлин, который укрепил агентство в качестве исполняющего обязанности директора после отставки Тенета, нанес еще один ответный удар. ЦРУ – не «порочное» агентство, не «сборище мошенников», написал он в «Вашингтон пост». «ЦРУ как государственное учреждение не вступало в заговоры против президента». Вставил свое веское слово и Хэвиленд Смит, который ушел в отставку с поста руководителя антитеррористического штаба. «Портер Госс и его войска с Капитолия сеют хаос, – написал он. – Чистки в ЦРУ в этот весьма неудачный момент, когда приходится иметь дело с реальными угрозами терроризма, – это фактически стремление навредить самому себе». В любые нелегкие времена, когда пресса не оставляла от ЦРУ камня на камне, директор агентства еще никогда не подвергался публичным нападкам со стороны старейших ветеранов американской разведки…
ЦРУ разрывалось на части.
«Вот один из наиболее специфических типов управления, с которым может столкнуться какое-либо правительство, – сказал за пятьдесят лет до этих событий президент Эйзенхауэр. – Вероятно, потребуется странный вид гения, чтобы им управлять». На посту директора Центральной разведки сменилось девятнадцать человек. И ни один не смог соответствовать тем высоким стандартам, которые установил Эйзенхауэр. Основатели агентства потерпели крах из-за невежества в Корее и Вьетнаме, их также погубило собственное высокомерие в Вашингтоне. Их преемники были брошены на произвол судьбы, когда рухнул Советский Союз, и застигнуты врасплох ударами террористов в самое сердце американской власти. Их попытки переосмыслить существующий мир произвели немало тепла, но дали совсем мало света. Как и в самом начале, служаки Пентагона и Госдепа относились к ним с презрением. Больше половины столетия у американских президентов портилось настроение, когда обращались к директорам с просьбами что-нибудь выяснить или разузнать.
От работы, которую нельзя было выполнить, к всеобщему удовлетворению заинтересованных сторон, теперь предстояло отказаться.
В декабре 2004 года, когда перестройка в агентстве шла полным ходом, конгресс провел, а президент подписал новый закон, согласно которому учреждался пост директора Национальной разведки, на чем настаивала Национальная комиссия по расследованию террористических атак против США. Второпях разработанный, поспешно обсужденный, закон в принципе не дал ничего, чтобы как-то ослабить хронические и врожденные проблемы, терзавшие агентство с момента его основания. Это была лишь видимость перемен, по сути, все осталось на прежнем уровне.
Госс думал, что на этот пост президент выберет именно его. Но звонка от главы государства по этому поводу он так и не дождался. 17 февраля 2005 года Буш объявил, что на пост директора Национальной разведки он назначил американского посла в Ираке Джона Д. Негропонте. Дипломат строгих консервативных устоев, учтивый, тонкий, квалифицированный интриган, он ни дня не проработал в разведке, и долго на этом поприще ему не суждено было задержаться.
Как и в 1947 году, на нового «царя» повесили ответственность, не наделив соразмерными полномочиями. Пентагон все еще контролировал значительную часть бюджета национальной безопасности, которая теперь приближалась к 500 миллиардам долларов в год, в которых доля ЦРУ составляла примерно 1 процент. Новый приказ служил только в качестве формального признания того, что старый порядок перестал действовать.
«Провал нельзя объяснить»
ЦРУ был нанесен серьезный удар. Согласно законам джунглей и образу жизни официального Вашингтона, сильные пожирают слабых. Огромные полномочия в области шпионажа, секретных операций, перехвата и прослушивания информации и разведки президент предоставил заместителю министра обороны по разведке. В министерстве обороны этот пост возвели в ранг третьего по значимости. «Это назначение, словно землетрясение, потрясло разведывательное сообщество, – сказал Джоан Демпси, который при Буше занимал пост заместителя директора Центральной разведки и являлся руководителем консультативного совета по иностранной разведке. – Это во многом сродни кремлевским методам».
Пентагон украдкой, но весьма настойчиво перемещался в область заграничных секретных операций, узурпируя традиционные роли, обязанности, полномочия и миссии тайной службы. Он принимал сюда на службу самых многообещающих молодых офицеров и вместе стремился удержать самых опытных. Милитаризация разведки ускорялась по мере того, как приходила в упадок национальная гражданская разведывательная служба.
Новый главный аналитик у Негропонте Томас Фингар руководил маленьким управлением Государственного департамента по разведке и исследованиям. Наведя справки по поводу состояния директората агентства по разведке, он быстро пришел к выводу, что «никто здесь понятия не имеет, кто, где и что делает». Он постарался подмять еще функционирующие остатки аналитического потенциала ЦРУ под свое крыло. Лучшие и наиболее яркие умы покинули агентство и стали работать на него.
ЦРУ постепенно теряло свой былой статус и облик. Штаб-квартира все еще находилась на прежнем месте, и в этом здании, наверное, всегда будет располагаться какое-то крупное учреждение. Но 30 марта 2005 года был нанесен сокрушительный удар по тому, что составляло основу морального духа ЦРУ. Этот удар пришелся в форме 600-страничного доклада президентской комиссии под председательством Судьи Сильбермана. Более скрупулезного и строгого мыслителя в столице было трудно отыскать. Поэтому его интеллектуальный «жетон» был столь же убедителен, как и его весьма консервативные верительные грамоты. Он дважды был близок к тому, чтобы быть назначенным директором Центральной разведки. За пятнадцать лет службы на посту судьи федерального апелляционного суда в Вашингтоне он неизменно придерживался интересов национальной безопасности, даже когда они посягали на идеалы свободы. Его подчиненные, в отличие от членов Национальной комиссии по расследованию террористических атак против США, имели за плечами немалый опыт в разведывательных операциях и анализе.