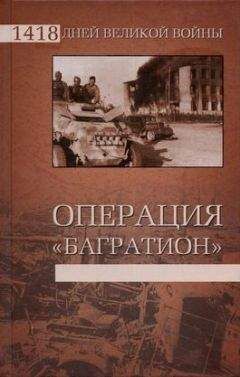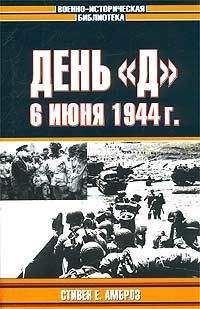Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы
Этим положениям полностью противоречила существовавшая система курсовых экзаменов, и Любимов, подобно другим деятелям российского высшего образования, настаивал на ее отмене и на необходимости вообще отделить экзамены от преподавания, чтобы их программа не довлела над слушателями (как это произошло в Германии, где выпускники сдавали экзамены по месту будущей службы). «Стремление превратить университет в какой-либо род специальной школы противоречит общему характеру университетского преподавания», – подчеркивал профессор.
Выступления Любимова ярко характеризовали его позицию как проводника идей «классического» университета в России.[1361] Однако начавшийся новый виток общественных споров по «университетскому вопросу» в 1870-е гг. вызвал и ряд опровержений этих взглядов. Так, известный историк В. И. Герье (1837–1919) резко критиковал Любимова по всем принципиальным позициям и хотя не отрицал научное значение немецких университетов, но фактически доказывал, что оно утвердилось не благодаря, а вопреки их устройству, которое не подходит для отечественных университетов. Так, «в Германии вопрос об избрании или рекомендации профессоров не имеет важного практического значения», поскольку решается в условиях избытка ученых сил, у нас же – «какие параграфы не принимай, не будет написано ни одной лишней диссертации на Руси, не явится ни одного лишнего профессора».[1362]
Развитие гонорарной приват-доцентуры также, по мнению Герье, не годилось в России. Он считал, что «польза, которую студенты в состоянии извлечь из конкуренции преподавателей, весьма двусмысленна», поскольку эта конкуренция основана на «фразах и приманках» и не имеет отношения к подлинному «научному» состязанию. При этом в Германии же реальное соревнование преподавателей происходит не внутри университетов, а «между университетами», которые имеют возможность «переманивать» к себе наиболее талантливых. Поэтому профессор поддерживал систему штатных доцентов, принятую Уставом 1863 г., который, благодаря этому, по мнению Герье, даже опережал текущее развитие университетов в Европе.
Герье также делал акцент на необходимости сообщить студентам определенный набор специальных знаний и контролировать их усвоение. В то же время, обсуждая организацию университетского управления, он предлагал разделить хозяйственные и научные функции Совета, оставив тому лишь последние, а также реорганизовать лекционную систему в духе свободы преподавания и максимального разнообразия курсов.[1363] Поэтому, в целом, его позиция, хотя и не совпадала во многом с «классической» моделью, скорее относилась к промежуточной, отражая взгляды реалиста на текущие возможности реформирования университетов в России.
Результаты прошедших споров, действительно, наложили отпечаток на пересмотр общего Устава российских университетов 1863 г. и принятие его нового варианта в 1884 г. Однако и здесь можно отметить противоречивость нового документа. С одной стороны, в нем вновь были сделаны шаги в сторону «классического» университета: утверждено обязательное назначение профессоров министерством, получил, наконец, с установлением почасовой оплаты прочную базу и начал быстро развиваться институт приват-доцентов (при одновременном упразднении штатных доцентов). Кроме того, в учебный процесс вводились практические научные занятия – семинары, расширялись университетские научно-исследовательские лаборатории и институты, т. е. те учреждения, которые на практике реализовывали принцип «единства науки и преподавания». Только в одном Московском университете в рамках Устава 1884 г. на рубеже XIX–XX вв. открылись 17 научных институтов, из которых 12 относились к медицинскому, 4 – к физико-математическому и один – к историко-филологическому факультету Основателями первых научных семинаров на историко-филологическом факультете были В. И. Герье, П. Г. Виноградов, Н. И. Стороженко, Г. Н. Челпанов и др.
С другой стороны, управление университетом по Уставу 1884 г. увязало в бюрократическом контроле. Министерство получило все ключевые рычаги влияния на университеты вплоть до прямого назначения университетской администрации, но использовало их для того, чтобы повышать не научный потенциал учебных заведений, а лишь их политическую благонадежность. Этим практика министерства народного просвещения в России резко отличалась от действий аналогичного государственного органа в Пруссии, на которую само же министерство всегда указывало как на пример.
Деятельность прусского Kultusministerium конца XIX – начала XX в. в рамках т. н. «системы Альтхофа» была направлена на то, чтобы, распределяя ученых и финансовые ресурсы по различным университетам, поддерживать там максимальную эффективность научных исследований. Неудивительно поэтому, что в кайзеровской Германии они испытали наивысший взлет, закрепивший мировое признание «классической» модели.[1364] В России же, имея право назначать и смещать профессоров, министерство пользовалось им исходя не из научных критериев, а противодействуя т. н. «либеральной профессуре», среди которой были выдающиеся ученые, как, например, И. И. Мечников, К. А. Тимирязев, В. И. Вернадский, П. Г. Виноградов, С. А. Муромцев и др. Некоторые из них пользовались общеевропейской известностью, и их конфликт с министерством привел в конечном счете к эмиграции из России и продолжению ученой деятельности за границей.[1365]
В то же время взгляды либеральной профессуры, выражаемые с профессорских кафедр или около них, «подпитывали» студенческое движение, а студенты отчасти видели в этих профессорах выразителей своих интересов.[1366] Студенческому движению министерство пыталось противопоставить, опять-таки, не стимулирование заинтересованности в научных занятиях через свободу обучения, а определенные внешние рычаги – социальную политику, заключавшуюся в преимущественном допуске в университеты детей дворянства, повышение требований к гимназическому аттестату путем обязательного введения туда двух древних языков. Внутри университета студенты подвергались плотной опеке со стороны инспекторов, подчиненных министерству. К ужесточению бюрократического элемента вело и учреждение в университетах экзаменационных комиссий, которые принимали выпускные экзамены по утвержденным государством программам и выдавали дипломы на чины 10 или 12 класса. Обязательным условием допуска к выпускным экзаменам был зачет определенного числа полугодий, что сохраняло курсовую систему и переходные экзамены, правда с разделением предметов на обязательные и необязательные. Такая система ориентировала студентов на посещение только тех курсов, причем читавшихся в соответствии только с теми программами, которые были утверждены министерством, тем самым девальвируя заложенную в развитии приват-доцентуры свободу преподавания.
Итак, на примере Устава 1884 г. видно несовпадение исходно обсуждавшихся при его подготовке принципов немецкого «классического» университета и их реализации в России. Тонкое равновесие между государственным вмешательством в университетскую жизнь и поддержанием там научной свободы, о котором писал Гумбольдт, в России не соблюдалось. В отличие от Германии, даже в рамках системы с близкими исходными принципами российское правительство на рубеже XIX–XX вв. занималось не поощрением науки, а прежде всего обузданием политических выступлений, поддерживаемых большинством студенчества и значительной частью профессуры.
Все это свидетельствовало о кризисе отечественных университетов и активизировало новый виток общественных дискуссий после революции 1905 г., когда правительство признало необходимость очередной реформы и начало подготовку к ней. Особенностью этого этапа полемики являлось то, что он происходил в условиях подавляющего доминирования немецких университетов (как их называли тогда, «кузницы нобелевских лауреатов») не только в Европе, но и в мире. Речь больше не шла о соревновании нескольких образовательных моделей – и университеты Австро-Венгрии, и высшие учебные заведения Франции к этому времени уже были реформированы по берлинскому образцу, кроме того, в сооветствии с ним открылись и успешно развивались Пекинский, Токийский университеты, первые «классические» университеты Северной Америки (Johns Hopkins University в Балтиморе) и др. Было торжественно отпраздновано столетие Берлинского университета, в ходе которого публицистика и историография впервые в полной мере признала роль В. фон Гумбольдта как университетского идеолога, чьи ключевые рукописи как раз незадолго до этого были опубликованы (и, скорее, даже родился продолжающий существовать до наших дней «гумбольдтовский миф»[1367]). Большой вклад в это внесла книга Эдуарда Шпрангера с характерным названием «О сути университета» (1910), аккумулировавшая неогуманистическую концепцию «классической» модели[1368].