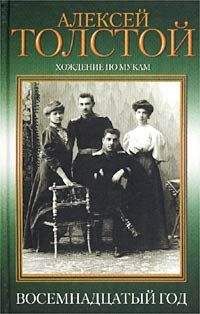Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга вторая
Сталин, как мы знаем, был груб, и этой своей грубости не стеснялся, даже гордился ею, так что вполне мог бы поинтересоваться судьбой Ахматовой и в такой форме:
— А что дэлает блудныца?
Но молва приписала ему другой оборот:
— А что дэлает монахыня?
Этой самой молве (она же — интеллигентский фольклор), видимо, хотелось, чтобы вождь выглядел более или менее респектабельно.
Но в какой бы форме этот свой интерес к Ахматовой вождь ни выражал, есть множество свидетельств, подтверждающих, что он время от времени действительно интересовался ее судьбой, держал ее, так сказать, в поле своего зрения.
Один такой его вопрос относится к начальным годам войны, когда она жила в эвакуации — в Ташкенте:
Рассказывала, как по улицам Ташкента медленно двигались караваны верблюдов «из пустыни в пустыню», как из госпиталя напротив ее дома выползали на костылях раненые, лежали на траве голыми обрубками и широко и печально пели военные песни, играли в карты, забивали козла, громко хохотали и сквернословили.
Рассказывала, как болела тифом и лежала в больнице, как было тяжело, тоскливо и жарко, как в больничной палате над каждой койкой висели, чуть раскачиваясь, пыльные электрические лампочки, которые не горели, и как в один прекрасный день, топая ногами, вошел больничный завхоз, остановился в дверях и громко спросил: «Где здесь лежит Ахмедова?», после чего подошел к ее кровати и молча включил лампочку. Оказывается, в это время Сталин поинтересовался ею и спросил у Фадеева, как живет Ахматова, а тот позвонил в Ташкент, и в результате была проявлена забота и лампочка над кроватью включена.
(Сильва Гитович. В Комарове. В кн.: Воспоминания об Анне Ахматовой. М. 1991. Стр. 506)Этот рассказ, наверно, слегка беллетризован и Анной Андреевной, и записавшей его Сильвой Гитович. Но сама история вряд ли выдумана.
Л.К. Чуковская в своих записках достоверность ее подвергает сомнению, но при этом тоже сообщает нечто подобное:
…Какая-то путаница с каким-то звонком Сталина в Ташкент, он будто бы приказал вылечить ее от тифа — хотя, мне помнится, звонил в Ташкент не Сталин, а Жданов, и не во время тифа, а раньше.
(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1963—1966. Том третий. М. 1997. Стр. 292)Что-то, значит, все-таки было. И если звонил не Фадеев, а Жданов, так ведь тоже небось не по собственной инициативе, а с подачи Сталина.
О том, что Анна Андреевна в то время была в поле благожелательного внимания Сталина, свидетельствуют и другие источники:
Появлению Ахматовой в Ташкенте сопутствовала легенда о личном покровительстве ей Сталина… Эту легенду запомнил и запечатлел в своих воспоминаниях польский офицер и художник Йозеф (Юзеф) Чапский.
(Анна Ахматова. Собрания сочинений в шести томах. Том второй. Книга первая. М 1999. Стр. 272)Эту легенду Анна Андреевна охотно поддерживала. Интерес Сталина к ее персоне ей льстил. Это отмечает и один из осведомителей НКВД, донос которого приводит в своей, уже упоминавшейся мною статье Олег Калугин:
Заботится о чистоте своего политического лица, гордится тем, что ею интересовался Сталин.
(Госбезопасность и литература. На опыте России и Германии. СССР и ГДР. М. 1994. Стр. 76)С теми, в ком она подозревала или могла подозревать осведомителей Большого Дома (а подозревала она едва ли не всех, с кем общалась), Анна Андреевна вряд ли откровенничала. Так что нельзя исключать, что это была своего рода маска. Да и легенду о покровительстве вождя, о которой упоминает в своих воспоминаниях Чапский, она тоже могла поддерживать, а отчасти даже и создавать, так сказать, в целях самозащиты.
Но легенда подтверждается фактом, выдумать который она не могла и ссылаться на который, если бы не была в нем уверена, вряд ли бы решилась:
28 сентября 1941 г., по специальному распоряжению правительства, из блокированного Ленинграда вывезли на военных самолетах некоторых ученых, деятелей культуры, писателей. Список писателей составлял А. Фадеев. Ахматова была включена в него по личному указанию Сталина. Легенда о том, что именно Сталин спас ее от смерти в блокадном Ленинграде, нравилась Ахматовой. Она рассказывала об этом многим. Вот один из таких рассказов:
«Я вылетела из Ленинграда 28 сентября 41-го года. Ленинград был блокирован. Летела я на военном самолете, эскортировали истребители. Они летели так близко, что я боялась, что они заденут нас крылом. Я была в списке на эвакуацию, подписанном Сталиным. В этом списке был и Зощенко…»
(Анна Ахматова. Собрание сочинений в шести томах. Том второй. Книга первая. М. 1999. Стр. 262)Сам факт включения ее фамилии в этот список ни о каком особом благоволении Сталина к ее персоне, разумеется, не говорит. Говорит он только о том, что и ее, и Зощенко Сталин считал, так сказать, национальным достоянием.
А вот повторяющийся время от времени вопрос «Что делает монахиня?» говорит о большем.
В переводе на язык конца XVIII — начала XIX века этот сталинский вопрос звучал бы примерно так: «Впрочем, пребываю благосклонный к Вам…» И — подпись царствующего монарха: «Николай». Или — «Александр». Или — «Павел».
Но однажды (и даже не однажды, а по крайней мере дважды) случилось Сталину облечь этот свой интерес к Ахматовой в форму совсем другого, отнюдь не благосклонного вопроса.
* * *
Внимание Сталина к Ахматовой в годы войны объясняется не только личным его к ней интересом, но и существенным изменением ее официального статуса. Каким бы крахом ни кончился ее короткий триумф 40-го года, она теперь уже была все-таки не та Ахматова, выброшенная из официальной советской литературы, полузабытая, — в сущности, даже не полузабытая, а совсем забытая, — многие, услышав ее имя, изумлялись: «Как! Разве она еще жива?» Теперь она была официально признанная советская поэтесса. Член Союза Советских Писателей. А в 1942 году (8 марта) одно ее стихотворение («Мужество») было даже напечатано в «Правде». Такой чести ни разу не удостоился даже Маяковский.
В «Правду» это стихотворение принесла Фрида Абрамовна Вигдорова. И в редакции у кого-то хватило ума его напечатать. В этой акции, кстати, был немалый политический смысл: опубликовав на своих страницах стихотворение Ахматовой, центральный орган партийной печати всему миру продемонстрировал не фиктивное, а реальное «морально-политическое единство» советского народа.
Стихотворение это как будто и впрямь свидетельствует о том, что в этот исторический момент у Ахматовой не было никаких расхождений с официальными советскими лозунгами. Ведь все эти лозунги тогда тоже твердили не об интернационализме и коммунизме, а о России, о спасении Родины, ее защите от иноземных захватчиков. Защите не только ее территориальной целостности, но и самого ее национального и исторического существования.
Спешно нужно было создать впечатление, что речь и на этот раз идет о спасении России — той самой, которую уже столько раз спасали наши великие предки. Слово «Россия» было к тому времени уже полностью реабилитировано. Оно было синонимом слова «Родина», и уже необязательно было даже всякий раз прибавлять, что Родина эта — новая, советская. Это слово глядело на нас с военных плакатов и театральных афиш, орало из всех репродукторов. Только и слышалось: «Русские люди», «Русская земля», «Русь», «По-русски рубаху рванув на груди», «Русская мать нас на свет родила…».
И вот в этом-то 1942 году Анна Ахматова написала коротенькое стихотворение — «Мужество»:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, Русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Чуткость поэта, художественная честность его, его пророческий дар проявляются не только в том, какие слова он произносит. Быть может, с еще большей обнаженностью и остротой сказываются они в тех словах, которые поэт не в силах произнести.
Ахматова и в самом деле очень ясно представляла себе, «что ныне лежит на весах и что совершается ныне». Но слово «Россия» так и не сорвалось с ее губ. Она слишком хорошо знала: того, что она привыкла называть этим именем, больше нет и не будет. Надо спасать детей, пытаться защитить жизнь от разрушения и смерти. Но при чем же тут Россия? От России осталось лишь одно, последнее достояние, которое имеет смысл беречь и защищать: русская речь. Тот великий, могучий и свободный язык, который для Тургенева был единственной надеждой и опорой в те минуты, когда его одолевали тягостные сомнения, мучительные раздумья о судьбах родины. Для Ахматовой этот язык уже не был ни надеждой, ни опорой, помогающей верить в великое будущее того народа, которому он был дан. Для нее он был ценностью отнюдь не относительной, но самодовлеющей. Последней драгоценностью, которую у нее еще не сумели отнять.