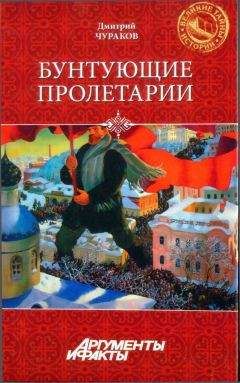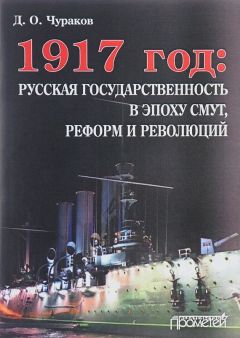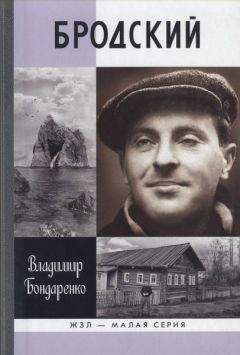СССР при Брежневе. Правда великой эпохи - Чураков Дмитрий Олегович
Тем самым общая тенденция обозначилась довольно четко – потерявшие всякую надежду массы проявляли свое неприятие хрущевской политики, выходя на улицу. Как показывают новейшие исследования, в частности данные, полученные историком Козловым, время со второй половины 1950-х до первой половины 1960-х годов было самым неспокойным во всей послевоенной советской истории. Другой историк, Семанов, в оценках еще категоричней, он утверждает, что в Советском Союзе ничего подобного не наблюдалось со времен НЭПа. И это не преувеличение. В хрущевский период по стране прокатилось множество массовых выступлений, в которых принимали участия рабочие, служащие Советской армии, студенты. Согласно справке КГБ о массовых выступлениях в СССР, подготовленной несколько позже, а именно во время горбачевской «перестройки», только за последние годы правления Хрущёва в стране состоялось не менее 10 крупных народных волнений с числом участников 300 человек и более. Причем, что самое печальное, в 80–90 % случаев для их подавления Хрущёвым применялось оружие, гибли люди. То есть других способов урегулирования противоречий между властью и обществом, кроме голого насилия, Хрущёв просто не знал или не признавал. Шутка ли сказать – даже при Сталине такой страшной статистики не отмечалось! Поэтому в корне неверным являются утверждения журналиста Леонида Млечина, содержащиеся в предисловии к новому исправленному изданию книги В.А. Козлова, будто бы выступления при Хрущёве были, по сути, запоздалой реакцией населения на обиды, нанесенные ему сталинской властью. Этот вывод явственно противоречит всему фактическому материалу, собранному в исследованиях самого Козлова, которому Млечин тем самым оказывает медвежью услугу.
О том, что именно политика самого Хрущёва подорвала доверие к нему в советском обществе, свидетельствует и тот факт, что не только в народе, но и в среде либеральной интеллигенции, ставшей после XX партсъезда надежной опорой хрущевских преобразований, росло разочарование в недавнем кумире. Это было вызвано отходом руководства страны от либеральных реформ в области культуры первых лет «оттепели». Начинается возврат к прежним методам ограничения свободы творчества и цензурных запретов. Жертвой очередного поворота становятся даже такие известные писатели, как Б. Пастернак. В 1957 году он выдвигается на соискание Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго». В ответ на это в СССР против писателя была начата целая волна разоблачений, а в октябре 1958 года он был изгнан из Союза писателей. Резкой критике за «идеологическую сомнительность», «отрыв от интересов трудового народа» и т. п. подвергались поэты А. Вознесенский, Е. Евтушенко, писатели В. Дудинцев, С. Кирсанов, К. Паустовский, скульптор Э. Неизвестный, художник Р. Фальк, режиссер М. Хуциев. Так и не увидела свет рукопись романа В. Гроссмана о войне «Жизнь и судьба», которая была изъята у писателя органами госбезопасности (она дошла до своего читателя лишь в 1988 году). Не пошел на экраны фильм М. Швейцера «Тугой узел», попали в спецхран многие другие произведения.
Самым ярким эпизодом, ставшим своеобразным символом окончания эпохи «оттепели», исследователи часто называют посещение в 1962 году Хрущёвым выставки в честь 30-летия Московской организации союза художников. Познакомившись с работами молодых художников-авангардистов, Хрущёв отозвался о них в самых грубых тонах, следствием чего становится экстренно принятое руководством Академии художеств осуждение левых течений в живописи: «формализм» и «абстракционизм» обличались в нем как «враждебные всей марксистско-ленинской идеологии» советского общества.
Трагическим событием периода «оттепели» становится самоубийство 13 мая 1956 года видного отечественного писателя А.А. Фадеева, не пожелавшего принять идеологические кульбиты новых правителей СССР, их стремление установить диктат над творчеством. В своей предсмертной записке он писал: «Литература – этот высший плод нового строя – унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти – невежды».
В одной из бесед с тогда еще молодым поэтом Андреем Вознесенским Пастернак отзывался о Хрущёве примерно в тех же тонах, что и Фадеев: «Так долго над страной царствовал безумец и убийца, а теперь – дурак и свинья». Как подтверждают современные исследования, тема о дураке и свинье на троне была живо подхвачена и другими представителями творческой элиты. Так, поэт Илья Сельвинский свое отношение к свободе творчества в СССР и лично к «дорогому Никите Сергеевичу» сформулировал в следующей изящной манере:
Неправда, что книги летят у нас в урны:
Цензуру изгнал всесоюзный Совет.
Пример? Извольте: на целый свет Хрущёв, например, голосит нецензурно.
Как видим, обстановка становилась все напряженней и напряженней, все явственней и явственней проявлялись признаки приближавшейся бури. Как же правильно назвать характер происходившего в нашей стране на сухом языке социологической науки, например марксистской, – ведь Хрущёв сам себя считал выдающимся марксистом всех времен и народов? Если устроить инвентаризацию взглядов классиков, в особенности В.И. Ленина, то среди прочего нам попадется на глаза понятие «революционной ситуации». Ленин выделял три ее признака. Первый признак – это кризис верхов (когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому). Второй признак – это резкое падение жизненного уровня населения. Наконец, третий признак – это активизация массовых выступлений обездоленных низов. Как видим, в СССР генезис всех этих трех признаков зашел уже довольно далеко.
Во-первых, у Хрущёва уже не получалось по-прежнему лихо насаждать безропотно молчавшему обществу свои безответственные решения, а само общество, причем во всех своих важнейших сегментах, уже устало терпеть над собой тупое экспериментаторство. Во-вторых, люди были недовольны своим материальным положением. Условия жизни населения в течении хрущевского десятилетия, конечно, постоянно менялись, временами даже улучшались. Но прирост общественного богатства шел гораздо быстрее, чем повышение личного благополучия. А ведь давно установлено, что наиболее существенные социальные взрывы происходят не там, где общество во всей своей совокупности переживает кризис, а там, где наступает пора справедливо распределять плоды хозяйственного подъема, а кто-то по справедливости делиться не желает (об этом, например, в одном из своих тюремных писем рассуждал опальный олигарх М. Ходорковский, знающий о профилактике трудовых конфликтов не понаслышке). При Хрущёве ситуация усугублялась еще и тем, что даже при позитивной динамике экономического роста случались такие пиковые моменты, когда жизненный уровень людей падал стремительно. И, в-третьих, как мы только что видели, протестная энергия всех слоев населения становилась все более и боле весомым фактором внутриполитической жизни.
Тем самым, на марксистском языке, происходившее в СССР в последние годы правления «марксиста» Хрущёва, который, правда, на самом деле никаким марксистом не был, следует оценивать как вызревание революционной ситуации. Да и не только на марксистском, на любом ином языке социологической науки, тем более на языке здравого смысла, ситуация могла быть названа если и не революционной, то предгрозовой – верхи были уже ни на что способны, а низы хотели – очень хотели – есть! И пускай историки стыдливо бояться называть вещи своими именами (советские историки не могли допустить самой мысли, что в «стране победившего социализма» могла сложиться революционная ситуация, а либеральным историкам «политическая целесообразность» не позволяла признать, что кризис тех лет был вызван вовсе не «провалом советского эксперимента», а вторжением западнического либерализма в традиционное и солидарное жизнеустройство нашего народа), суть выявленного нами явления остается неизменной.