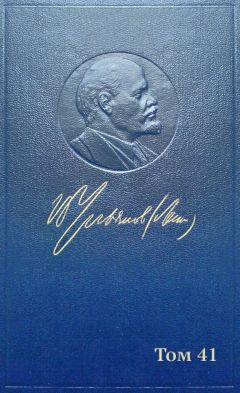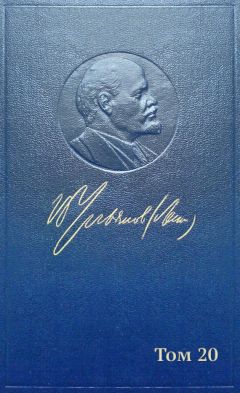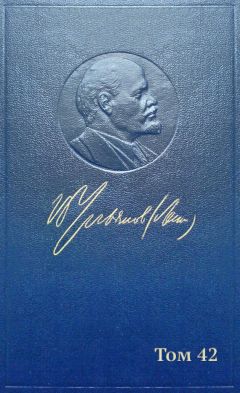Петр Врангель - Записки (ноябрь 1916 года - ноябрь 1920 года)
"Вы правы, батюшка", - ответил я, - "мы все граждане. Но то, что мы граждане, не мешает мне быть генералом, вам священником, а им молодцами казаками. Что они молодцы, я знаю, потому что водил их в бой, что они казаки, я также знаю, я сам командовал казачьим полком, носил казачью форму и горжусь тем, что я казак".
Затем, повернувшись к казакам:
"Здорово еще раз, молодцы казаки".
"Здравия желаем, ваше превосходительство", - раздался дружный ответ.
Я сел за стол и, обращаясь к генералу Одинцову спросил, что здесь происходит.
Генерал Одинцов доложил, что обсуждается резолюция, предложенная представителями армейского комитета, выражающая поддержку Керенскому, телеграмма которого была прочитана представителями армейского комитета.
"Отлично, - громко сказал я, - а телеграмму Корнилова вы читали?" Тут вмешался господин во френче:
"По постановлению армейского комитета эта телеграмма объявлению не подлежит".
"Я получил эту телеграмму от командующего армией, она передана под мою личную ответственность. Я не считаю возможным скрыть ее от моих войск. Ответственность за это всецело принимаю на себя". Я вынул телеграмму. Члены армейского комитета пытались протестовать, но из толпы послышались возгласы:
"Прочитать, прочитать". Я прочел телеграмму.
"Теперь вы знаете, казаки, все. Верю, что вы исполните долг солдата и решите по совести и воинскому долгу. Что касается меня, то я как солдат политикой не занимаюсь. Приказ моего главнокомандующего для меня закон. Уверен, что и ваш начальник дивизии скажет вам тоже самое". Я посмотрел на Одинцова. Он что-то бормотал, глаза бегали во все стороны:
"Я - как мои дети, как мои казаки", - наконец вымолвил он. С превеликим трудом я удержался, чтобы не обозвать его подлецом. Встав и попрощавшись с казаками, направился к автомобилю. В минуту, когда я садился, подбежал Одинцов:
"Как же так, как же так, - бормотал он, - я совсем растерялся. Ты с твоим вопросом застал меня врасплох..." Я махнул рукой и приказал шоферу ехать.
После продолжительных разговоров 3-я дивизия вынесла резолюцию поддерживать Керенского, 7-я, до вечера ничего не решив, от резолюции уклонилась. Через день было получено приказание штаба армии - над всеми телеграфами и телефонами устанавливался контроль войсковых комитетов, все приказания начальников вступали в силу лишь по скреплении подписью одного из членов войскового комитета.
Этого я перенести не мог. Сев верхом, я проехал в штаб армии и просил командующего меня принять. Я застал генерала Соковнина в саду, где он гулял с начальником штаба и адъютантом. Попросив разрешения говорить с глазу на глаз, я вынул из кармана только что полученное приказание:
"Это приказание, ваше превосходительство, я считаю оскорбительным для начальников. Выполнить его я не могу. Прошу немедленно отчислить меня от командования корпусом..." Генерал Соковнин стал меня уговаривать взять мое решение обратно. Я стоял на своем:
"Я не могу выполнить этого приказания. Ежели вы меня не отчислите, то мне не остается ничего другого делать, как по тревоге поднять 7-ю дивизию и говорить непосредственно с войсковым комитетом". Генерал Соковнин, видимо, испугался.
Убежденный, что я не остановлюсь перед выполнением своего решения и боясь осложнений, он обещал мне тут же переговорить с армейским комитетом. Я прошел в штабную столовую. Через час ординарец принес мне приказание командующего армией, где "разъяснялся" предыдущий приказ. "Разъяснениями этими" пункт приказа о скрепе подписи начальников совсем отменялся. Контроль над войсковой связью все еще оставался. Я, вернувшись в штаб корпуса, приказал телеграфный и телефонный аппараты перенести в свою квартиру. Корпусной комитет не решился прислать ко мне свое наблюдение.
5-го сентября был полковой праздник Белорусского гусарского полка. Я решил придать ему особую торжественность, чтобы поднять дух частей, отправил через границу в Румынию купить вина и выдал по боченку в каждый эскадрон; из обозов 2 разряда выписал красные чакчиры. После молебна сказал полку несколько горячих слов, а затем эскадронам был выдан обед. Я прошел по эскадронам и в каждом выпил чарку, говорил с людьми, после чего обедал в офицерском собрании. Играли трубачи, пели песенники, и на несколько часов мы перенеслись в старую полковую жизнь.
6-го из штаба фронта было получено приказание мне немедленно прибыть в Яссы.
Одна бригада кавказской казачьей дивизии была уже отправлена на север по железной дороге, другая получила приказание следовать в район Одессы. Штаб корпуса и 7-я дивизия оставались на месте. Оставив своим заместителем недавно произведенного из полковников генерала Дрейера, я выехал в штаб фронта.
Я не видел генерала Щербачева с самого начала войны и нашел его значительно постаревшим и, видимо, сильно подавленным. Работа штаба лежала почти исключительно на начальнике штаба генерале Головине, умном и весьма талантливом офицере. В штабе фронта, хотя и в меньшей степени, чем в штабе армии, чувствовались слабость и нерешительность. Разложение наших войск, находящихся в Румынии, коснулось несколько меньше, чем на остальных участках фронта, однако и здесь, в Яссах, солдаты ходили толпами, неряшливо одетые, не отдавали чести и курили на улице. Румынская армия, наоборот, оттянутая в течение зимы в тыл, отдохнувшая и реорганизованная под руководством французского генерального штаба, поражала своей выправкой и внешней дисциплиной.
Генерал Щербачев сказал мне, что вызвал меня, зная о том, что я находился в письменных сношениях с генералом Корниловым и опасаясь в связи с последними событиями, что мне могут грозить осложнения. Здесь, в Румынии, по его словам, я буду в безопасности.
Через два дня после моего приезда в Яссы получена была из ставки телеграмма за подписью начальника штаба о состоявшемся 9-го сентября назначении моем, приказом верховного главнокомандующего, командиром 3-го конного корпуса.
Все последнее время я жил под тяжелым нравственным гнетом. Участь генерала Корнилова, самоубийство генерала Крымова, возглавление армии "революционным главковерхом", "заложником демократии" во Временном правительстве адвокатом Керенским, все события последних дней глубоко потрясли армию. Остановившийся было процесс разложения возобновился, грозя совсем развалить фронт, а с ним и Россию. Однако, решение генерала Алексеева принять должность начальника штаба верховного главнокомандующего, казалось, говорило, что не все потеряно. Если генерал Алексеев решил стать начальником штаба "главковерха из Хлестаковых", то, видимо, есть еще надежда на какой-то исход. В минуту, когда я мог ежечасно ожидать ареста, назначение мое командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, корпуса, в состав которого входила родная мне Уссурийская дивизия, казалось мне перстом Провидения. Я не знал, насколько еще уцелели от разложения части корпуса и удастся ли мне взять корпус в руки; не знал, какая участь постигла объединенные графом Паленом офицерские организации в столице. Я решил немедленно ехать в Петербург.
Накануне большевиков Я прибыл в Петербург утром. Заехав домой переодеться, я отправился в штаб округа. В дверях штаба я столкнулся с генералом Красновым, старым знакомым моим еще с японской войны, последнее время командовавшим 2-ой сводной казачьей дивизией. Он был чрезвычайно удивлен, узнав о назначении моем командующим 3-м конным корпусом. Оказалось, что он почти одновременно со мной тоже допущен ставкой к командованию этим корпусом и уже в командование вступил. В последнее время при массовой смене лиц командного состава такие недоразумения случались часто. Я ничего не имел против неожиданного осложнения и решил не торопиться с принятием корпуса, предварительно ознакомившись с обстановкой.
Во главе округа стоял только что назначенный на эту должность полковник Полковников, бывший начальник штаба Уссурийской дивизии, последнее время командовавший Амурским полком и вместе с полком участвовавший в движении генерала Крымова на Петербург. Я передал ему о слышанном от генерала Краснова и спросил его, не известно ли ему что-либо. Он ответил мне, что также ничего не знает, что здесь, видимо, недоразумение и, так как из двух мое назначение приказом главнокомандующего является последним, то, по его мнению, я и должен принять корпус. Я ответил, что впредь до точного выяснения недоразумения я, дабы не ставить генерала Краснова в неловкое положение, в корпус не поеду и буду в Петербурге ждать разрешения вопроса.
От полковника Полковникова узнал я впервые и подробности последних дней генерала Крымова. По словам Полковникова, разрыв председателя правительства с главнокомандующим был для частей корпуса и самого генерала полной неожиданностью. Телеграмма Керенского, объявляющая генерала Корнилова изменником, стала известна лишь на ст. Дно. По словам Полковникова, прими генерал Крымов в эту минуту твердое решение продолжать безостановочное движение на Петербург, город был бы взят. К сожалению, генерал Крымов, застигнутый врасплох, в последнее время сильно изнервничавшийся, переживавший тяжелую семейную драму и в значительной мере утерявший прежнюю решимость, заколебался, стал запрашивать указаний ставки и потерял драгоценное время. Порыв ослаб, полки заколебались, и под влиянием преступной агитации началось брожение. Ближайшие помощники генерала Крымова, безвольный начальник Туземной дивизии князь Багратион и мягкий начальник Уссурийской дивизии Губин - окончательно выпустили части из рук. Через день стало ясно, что на успех рассчитывать нельзя. Грнерал Крымов, к которому по поручению Керенского прибыл начальник кабинета военного министра Самарин с предложением отправиться для переговоров в Петербург, решил ехать. Он прибыл к Керенскому, имел с ним чрезвычайно резкий разговор, после которого отправился на квартиру поручика Журавского, бывшего своего ординарца, в последнее время служившего в канцелярии военного министра. Генерал Крымов попросил дать ему бумаги и перо и оставить его одного. Через несколько минут раздался выстрел. Самоубийцу нашли на полу с простреленной грудью. Он оставил письмо на имя жены. На вопрос, что побудило его к такому шагу, он ответил: "Я решил умереть, потому что слишком люблю Родину". Попытка спасти его путем операции оказалась тщетной, к вечеру он скончался.