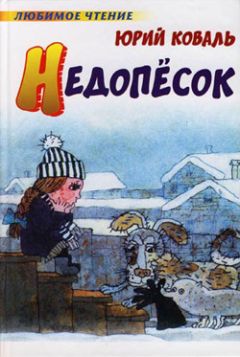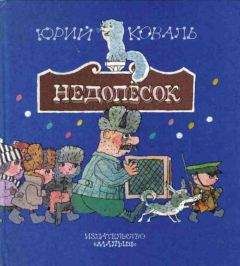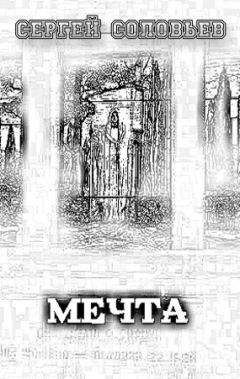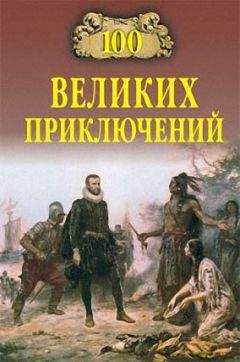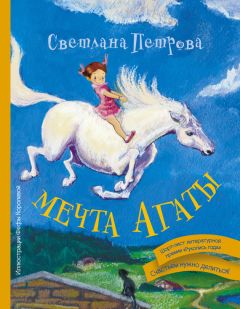Юрий Чернышов - Древний Рим: мечта о золотом веке
В следующих стихах рассказывается о том, как весь мир постепенно, по мере взросления маленького мальчика будет возвращаться к первоначальному благоденствию. Наступит этот прекрасный век в консульство Поллиона, когда начнут свой ход великие месяцы, когда козы сами понесут домой молоко, когда исчезнут львы, змеи и ядовитые растения, на месте которых расцветут цветы, ассирийские амомы. После того как мальчик станет юношей, научится читать о подвигах своего примирившего весь мир отца и сможет познать доблесть, на земле увеличится изобилие, из дубов потечет мед, но еще сохранятся следы прежнего греха: мореплавание, градостроительство, землепашество, войны. И только когда он возмужает, исчезнут не только эти пороки, но и торговля, и скотоводство, ибо земля обеспечит все и всюду, и даже шерсть у баранов будет перекрашиваться в любые цвета по их собственному желанию.
Далее Парки говорят своим веретенам: «Мчитесь, такие века». Когда же наступит время, потомок богов, великий отпрыск Юпитера, получит высшие почести, наблюдая, как весь мир будет радоваться грядущему веку (venture saeclo). Заканчивает поэт пожеланиями: к себе — чтобы у него хватило дыхания воспеть эти деяния, и к новорожденному — чтобы он начинал улыбкой приветствовать свою мать, переносившую десять месяцев (видимо, лунных месяцев) страдания, ибо тот, кто не знал родительской улыбки, не будет достоин трапезы бога и ложа богини.
Приведем (в сокращении) поэтический перевод эклоги:
(…) Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
К новорождённому будь благосклонна, с которым на смену
Роду железному род золотой по земле расселится
Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка.
При консулате твоем тот век благодатный настанет,
О Поллион! — и пойдут чередою великие годы.
Если в правленье твое преступленья не вовсе исчезнут,
То обессилят и мир от всечасного страха избавят.
Жить ему жизнью богов, он увидит богов и героев
Сонмы, они же его увидят к себе приобщенным.
Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей.
Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе,
Лучших первин принесет, с плющом блуждающий баккар
Перемешав и цветы колокассий с аканфом веселым.
Сами домой понесут молоком отягченное вымя
Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут.
Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами.
Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом
Сгинет, но будет расти повсеместно аммом ассирийский.
(…) «Мчитесь, благие века!» — сказали своим веретенам
С твердою волей судеб извечно согласные Парки.
К почестям высшим гряди — тогда уже время наступит, —
Отпрыск богов дорогой, Юпитера высшего племя!
(…) Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться, —
Десять месяцев ей принесли страданий немало.
Мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки,
Трапезой бог не почтит, не допустит на ложе богиня.
Даже самое поверхностное знакомство с XVI эподом Горация и IV эклогой Вергилия создает впечатление, что два этих произведения, предлагающих различные утопические выходы из мрачной ситуации эпохи гражданских войн, содержат тем не менее поразительные, почти буквальные совпадения в описаниях идеальных условий жизни. Это и козы, сами несущие домой молоко, и мед, текущий из дубов, и «добровольное» плодородие земли, и отсутствие хищных зверей и змей. Не удивительно, что в литературе давно уже оживленно дискутируется «вопрос о приоритете», обычно формулируемый таким образом: кто из двух поэтов был подражателем?
Предварительно датировав XVI эпод временем Перузинской войны (точнее — началом 40 года до н. э.), мы теперь обнаруживаем, что, видимо, к этому же году — году консульства Азиния Поллиона — относится и посвященная консулу IV эклога. О «приоритете» Вергилия, таким образом, можно было бы говорить лишь в том случае, если бы эклога была написана по поводу вступления в консульство, происходившего обычно в первый день нового года. Однако более внимательный разбор обстоятельств приводит к выводу, что из-за шедшей в то время войны Поллион как сторонник Антония не был введен в должность 1 января 40 года до н. э. В то время он находился в Венетии, и фактически его консульство осуществилось только после окончания войны и заключения осенью 40 года до н. э. мира в Брундизии.
Могли Вергилий в самый разгар гражданской войны, приведшей уже в феврале 40 года до н. э. к капитуляции Перузии и победе Октавиана, опрометчиво связывать оптимистическое пророчество о наступлении счастливых времен с весьма проблематичным консульством одного из сторонников Марка Антония (последний, кстати, был занят увеселениями в гостях у Клеопатры и не оказал помощи своим сторонникам в Италии)?
В Риме, где традиционно были сильны «вертикальные» связи между патроном и его клиентами, между главой фамилии и ее членами, отношения зависимости от влиятельных покровителей распространялись и на сферу литературного творчества. В неспокойной обстановке I века до н. э. эта тенденция лишь усилилась. Для всякого начинающего поэта, особенно если он не был знатен и богат, довольно остро стояла проблема выбора «патрона», который обеспечил бы ему политическую и материальную защищенность в обмен на более или менее верное следование той линии, которая поощрялась и поддерживалась.
Ко времени написания эклоги Вергилий каким-то образом успел снискать благосклонность сразу двух видных политических деятелей — и Поллиона, и Мецената, считавшихся тонкими ценителями произведений литературы и искусства. Азиний Поллион спас Вергилия от разорения во время раздела земель после Филипп, а Меценат (вероятно, с помощью Октавиана) защитил молодого поэта от насилий какого-то ветерана, чуть не убившего его из-за участка земли. Оба покровителя, принадлежавшие к противостоявшим во время войны группировкам, выступили посредниками при заключении Брундизийского мира.
Именно это обстоятельство в значительной степени помогает объяснить и оптимизм IV эклоги Вергилия, и то, что эта эклога открыто посвящена «антонианцу» Азинию Поллиону, о реальном, а не о номинальном исполнении должности которым говорится без тени сомнения. Все это склоняет к выводу, что Вергилий мог выступить со своим пророчеством лишь вскоре после Брундизийского мира, после возвращения Поллиона в Рим и вступления его в должность.
Следует отметить, что основания для оптимизма появились тогда не у одного только Вергилия. Брундизийский мир был встречен бурным ликованием во всей Италии, так как благодаря ему была предотвращена братоубийственная война, о которой думали, что она будет «самой тяжелой и длинной». Заключение мира было поддержано и уставшим от тягот войны населением Италии, и служившими у Антония и Октавиана солдатами-цезарианцами, не желавшими сражаться друг с другом. Залогом прочности этого мира, который должен был способствовать объединению сил римлян против парфян, а также принести государству «благоденствие и сплочение», стало торжественное бракосочетание Антония с сестрой Октавиана Октавией. Вполне вероятно, что именно на этой волне всеобщего энтузиазма, всколыхнувшей римское общество после долгого и тревожного ожидания катастрофы и гибели, именно тогда могли распространиться оптимистические пророчества о наступлении лучших времен, получившие талантливое поэтическое отображение в IV эклоге Вергилия.
Итак, если принять уже предлагавшиеся многими авторами датировки XVI эпода временем Перузинской войны, а IV эклоги — временем после Брундизийского мира, это заставляет сделать вывод о «приоритете» Горация, а не Вергилия. Такой вывод, впрочем, сам по себе еще не является основанием для рассуждений о «подражании» одного поэта другому. Сходства в их произведениях касаются лишь некоторых, ставших почти шаблонными, элементов описания блаженной жизни, а это значит, что оба поэта могли независимо друг от друга черпать из общего источника или даже выражать то, что стало общим мнением. Гораздо серьезнее не сходства, а различия двух произведений, предлагавших совершенно разные пути выхода в Утопию.
Если писавший во время войны Гораций, уже не надеясь на спасение Рима, предлагал спастись хотя бы лучшей части граждан в бегстве на уготованные для них «острова блаженных», то совсем иначе поступил Вергилий, провозгласивший после Брундизия скорое наступление тех же благ, возвращение «Сатурнова царства» для всего мира. Разница заключалась, пожалуй, еще и в том, что IV эклога в гораздо меньшей степени, чем XVI эпод, основывалась на привычных, традиционных для Античности религиозно-мифологических предоставлениях и — отчасти благодаря этому — содержала в себе ряд загадок, ответ на которые не был ясен даже многим современникам Вергилия.